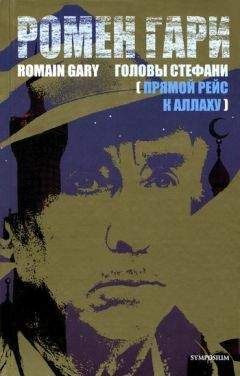Он старательно изгнал из своего голоса всякий намек на юмор, но Стефани странно посмотрела на него.
— Что касается меня, то во мне есть арабская и негритянская кровь, — продолжил Руссо. — Я начисто лишен каких бы то ни было расовых и религиозных предрассудков. Я глубоко привязан и к исламу, и к демократии…
Руссо ощутил хорошо знакомое покалывание самоиронии, разрушительной и переходящей в настоящую злость. В своей профессиональной жизни он уже сыграл столько ролей, что, случалось, задавался вопросом, а есть ли у него какая-нибудь личная жизнь. Ему довелось побывать евреем, кубинцем, пуэрториканцем, итальянцем, чернокожим с островов Карибского моря, бразильцем, арабским террористом. И все это благодаря юной антильской рабыне с нежным выговором, которая обворожила французского искателя приключений более века тому назад. Обычно он пресекал эту самокритику, потому что она плохо сказывалась на его нервах. Его нервы должны были содержаться в превосходном рабочем состоянии, хорошо смазанные и всегда готовые послужить, как и тот плоский предмет, что он носил подмышкой. Он решил остановить свои излияния и улыбнулся.
— Но я, наверное, наскучил вам своими демократическими историями.
— Как раз наоборот…
— Вы слишком красивы. Красота не может быть демократичной, потому что она уникальна. В Коране говорится: «В жаркой пустыне узнаешь ты Милосердного по чистой воде и прохладной тени, что оставит он на твоем пути». Сура о мучимом жаждой Путнике.
Руссо остался вполне доволен своим литературным экспромтом. Ему уже случалось раньше переделывать Библию. Самое время было взяться и за Коран.
Стефани сделала над собой усилие, чтобы принять серьезный и даже почтительный вид. Ее литературные вкусы были ближе нью-йоркской школе Филипа Рота и Нормана Мейлера, чем Библии или ее эквивалентам. Но здесь они находились в Средневековье, и следовало уважительно относиться к верованиям других и воздерживаться от иронии, даже если та напрашивалась сама собой.
А еще этот человек казался плотью от плоти здешней земли. Внешне это был современник царицы Савской, чья легендарная империя некогда лежала чуть дальше на востоке, в горах и песках Йемена. Хотя он и говорил на безупречном английском, но из-за этого лица из стародавних времен его американский акцент коробил Стефани и воспринимался ею как противоестественность, как кощунство. Его черты — в том числе и высокий лоб, увенчанный белизной и золотом, обладали тем царственным достоинством, которое являет природа, возобновив связь с изначальными корнями. Это живое присутствие прошлого не могло не взволновать. Впервые после ужаса в пустыне у Стефани снова пробудился интерес к этой стране и ее обитателям. Она быстро устроила себе небольшой суд совести, так, на всякий случай, но вышла из испытания с честью: нет, тут — слава Богу! — ничего общего с сексом. Похожее волнение она ощутила перед статуей Тутанхамона на выставке египетского искусства. Люди порой бывают так смешны. Порой кажется, что они не думают ни о чем, кроме постели.
Руссо опустил глаза на письмо в «Нью-Йорк таймс». Главное сейчас — помешать малышке покинуть страну и вызвать своей историей брожение умов в Нью-Йорке. Письма и каблограммы не представляли непосредственной угрозы: на почте за этим следили. Но она попросила в гостинице забронировать ей место на ближайший рейс, и они отчаянно искали довод, чтобы вынудить ее отложить отъезд.
Он поднял глаза и посмотрел на нее. Красивое личико, усыпанное веснушками, которые, казалось, пролились дождем с ее бронзовой шевелюры. Чуть вздернутый нос, которого хотелось нежно коснуться пальцами. Взгляд был открытый, прямой, волевой и решительный, и в нем присутствовало выражение уж незнамо какой доброй воли, нежности, желания поступать правильно. Она не была по-настоящему красивой, от совершенства ее спасала легкая неправильность черт — высокие выступающие скулы и мягкость щедрых губ с трудом сочетались с очень прямым лбом и волевым подбородком. Руссо остерегался красоты: она все выставляет наружу, в ней уже не откроешь ничего нового.
— Вы и в самом деле думаете, что в этом замешано правительство? — спросил он.
— Я в этом не сомневаюсь. Они делают всё, чтобы замять это дело.
— А если это была провокация? Если за эти преступления ответственны противники нового режима, агенты-провокаторы? Из вашего письма следует, что все жертвы как бы случайно принадлежали к этническому меньшинству, шахирам… Их казнь можно преподнести как доказательство того, что хасаниты, которых у нас порой называют «вновь прибывшими», вот таким вот отвратительным образом избавляются от бывших хозяев страны…
Стефани смотрела на него с удивлением.
— У вас и вправду политический склад ума, — сказала она.
В ее голосе не было ни следа подозрительности, но Руссо спросил себя, не слишком ли он торопит события.
— Как я вам уже говорил, я получил образование в Соединенных Штатах, а если там чему и учат, так это политике.
Было шесть часов, и улочка окрашивалась в тот розовый цвет, который заходящее солнце дарует в моменты нежности. Это был час, когда женщины шли к колодцу и десятками скапливались вокруг крана, из которого непрерывно текла вода, на углу между мечетью и медресе. У каждого бедуина было ружье, которое являлось неотъемлемой частью мужского костюма. Караваны верблюдов шли к большим воротам на другой стороне площади, а спешащие деловые люди мчались на такси-мотоциклах, обнимая руками водителя. Прошествовала процессия из двадцати ребятишек с плакатами, и хотя Стефани не могла их прочесть, она достаточно поездила, чтобы догадаться: надписи прославляют демократию и аграрную реформу.
Руссо как раз излагал ей историю Хаддана, выражая твердую надежду на то, что строгие библейские нравы выживут при переменах; вдруг он заметил на лице Стефани выражение страха. Ее глаза расширились, губы слегка приоткрылись, она крайне внимательно за чем-то наблюдала… Он хотел было обернуться в ту сторону, но она коснулась его руки.
— Не смотрите…
— В чем дело?
— Снова тот человек… Он повсюду ходит за мной… Вы, наверное, думаете…
В ее голосе появились звенящие нотки, и Руссо машинально пожал ей руку. Повелитель пустыни вряд ли бы позволил себе такой жест, но он как-никак три года прожил в Соединенных Штатах…
— Да нет же, я вам верю…
— Теперь вы можете взглянуть… Вон там…
На мужчине была куртка цвета хаки с короткими рукавами, широкие местные шаровары и сандалии. Светлые, подстриженные коротким ежиком волосы и шея такой же толщины, что и голова, — было не разобрать, где кончается одно и начинается другое. Лицо было плоским, как если бы его черты едва уцелели после встречи с дорожным катком. Он облокотился о стену и демонстративно ни на что не смотрел…
— Так, вы сейчас расстанетесь со мной и медленно двинетесь в сторону гостиницы. Вы ведь живете в «Метрополе»?
— Да.
— Ждите меня в холле.
— Что вы собираетесь делать?
— Наведу справки.
Они оба встали, и Руссо поднес руку к губам и к сердцу, как и подобало в этих краях. Случалось, он ловил себя с поличным на комедиантстве и упрекал за то удовольствие, которое испытывал, когда ему доводилось играть роль, особенно хорошо подходившую к его внешности. Сомнения не было: ему это нравилось.
Стефани протянула ему руку и поймала себя на том, что задумчиво смотрит на великолепную голову всадника пустыни. Ей почти захотелось увезти ее с собой в Соединенные Штаты.
Она рассмеялась. Это возвращалось…
— Извините меня. Я впервые смеюсь с тех самых пор… Мне гораздо лучше…
Она медленно двинулась в сторону «Метрополя». Никакой влюбленности, все дело в местном колорите. Она умела восхищаться красотой всюду, где ее находила, и не было никаких причин не восхищаться ею в мужчине. Да и вообще, кожа у нее на лице и на щеках продолжала шелушиться и не все ссадины зажили. В таком виде она вряд ли может кому-то понравиться, да ей и не хотелось нравиться. Конечно, после всего пережитого ее нервы были в ужасном состоянии, а именно в такие моменты женщины часто бросаются в объятия незнакомца. Она, слава Богу, еще до такого не дошла.
Руссо наблюдал за человеком.
Тот почти тотчас же пошел следом за Стефани.
Руссо выждал какое-то время, бросил на стол несколько рахдов и поднялся.
Власти заверили его в своем содействии, так что можно было не стесняться…
Он выбрал момент, когда человек проходил мимо одной из лавок.
Ее дверь была широко раскрыта.
О таких подвигах позднее рассказывают внукам, сидя в углу у камина с трубкой во рту. Руссо нацелился и ударил незнакомца в печень, одновременно толкнув его внутрь лавки. Это был удар, прозванный агентами «baby food»,[44] никто не знал в точности почему.