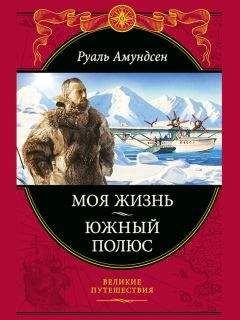И я тоже тороплюсь, очень тороплюсь занять место, как будто от этого зависит чья-то судьба. И уже сев, я боязливо оглядываюсь, и мысль, что я, может быть, сел не на свое место, точит томительно мозг. Я кричу:
— Ну, давайте карты…
И все удивленно смотрят на мой крик. И молчат. Тогда я сам удивленно гляжу вниз и молча говорю:
— Давайте играть…
Все поняли, и зашумели, и появились карты. Тогда я успокаиваюсь, поднимаю глаза и вижу: сидит на другом конце стола Фриц, хозяйкин сын, и чему-то смеется. Мне очень нужно знать, чему он смеется, но я не хочу спросить, потому что я за что-то обижен на Фрица, и еще потому, что он хозайкин сын и у меня мало денег.
Кто-то говорит:
— В покер…
— В покер, — громко и страшно тревожно кричу я, и мне хочется плакать. Кругом нет близких, нет родных, есть только один Фриц, хозяйкин сын, и еще один, высокий и очень худой. Я его знаю, но не могу вспомнить, кто он такой и откуда он, и почему у него в руках карты.
Всем дают по шести карт. И я беру их, и тоскливое недоумение сковывает мои пальцы: я не могу развернуть карт, но ясно вижу, что их у меня шесть, и у всех по шести.
— Почему шесть карт? — молча спрашиваю я. Никто не слышит моего вопроса, но все вдруг ужасно как начинают кричать, машут руками, а тот знакомый, не узнаваемый мною, шепчет мне в лицо, и я чувствую теплоту его гнилого дыхания, и стараюсь отвернуться, но не могу, а он все шепчет и шепчет мне в лицо; и уже засматривает в мои карты.
И вдруг со смехом кричит Фриц, хозяйкин сын:
— 4, и еще 20…
Я совсем не знаю, что это значит, и надо ли мне тоже смеяться. Тоска овладевает мною, и я упорно смотрю перед собой, и что-то кружится, все кружится передо мною, и я не знаю, что это такое…
И откуда-то неслышно произносит кто-то совсем печально: «Ни-ког-да…»
Я оглядываюсь, я ищу, кто сказал это, и не могу найти. Я всматриваюсь в лица: никто из них не может сказать так, как прозвучало.
— 4, и еще 20! — вновь кричит кто-то, и я жалко встаю, и тут поднимается большой шум, и у меня отбирают мои шесть карт. Я с облегчением смотрю на мои руки и думаю о том, кто сказал: «Ни-ког-да» и что значит: «4, и еще 20».
Тут мне дают какие-то короткие, тонкие палки, и я опять не знаю, для чего все это. И все вскакивают, теснятся, теснят меня к какой-то изгороди, и когда я совсем близко к ней, в щель я просовываю те палки и радуюсь, что теперь я уже совсем свободен и ничем не связан с толпой.
Вдруг я остаюсь совсем один. И оказываюсь около старого колодца с колесом, и мне страшно нужно узнать, почему я здесь, почему мне так хорошо тут. И старая большая груша как-то сразу вздрогнула листьями и повернула их ко мне тыльной стороной… Она была уже блеклой по-осеннему, и я сразу узнал эту грушу, и колодец, и колесо, сдвинутое с места.
Я засмеялся совсем как в детстве и с удивлением слушал свой молодой смех, и старая груша радовалась, что я узнал ее.
Потом приблизился шум голосов, и скоро меня окружили. И чем больше я вглядывался, тем ярче видел близкие лица: и Надежда Осиповна, и Нина, и Виктория, и мама… все с ведрами, все пришли по воду и радостно говорили:
— Вот и Виктор тут… а мы пришли по воду…
Я бросился к колесу, хотел качать воду, но колесо не работало, и воды не было. Все ждали, а я не знал, что делать, и мне было стыдно, что, вот, они пришли с ведрами, а воды нет.
Тут старик какой-то, странно знакомый, вытащил блестящий топор, передвинул колесо к столбу, ударил два раза и пошла вода.
Они брали воду, нарочно не смотрели на мою седую голову и трясущиеся руки. Они старались не замечать, как я плачу, а я видел, что на грушу падает дождь и по листьям слезами сбегает на утоптанную землю.
(Из старых тетрадей)
Будут подняты бокалы. И вино слегка вскружит голову, и на мгновение поверят люди в новое счастье, приносимое Новым годом.
Может быть, это и хорошо. Может быть, и нужна эта вера в какое-то призрачное, ожидаемое счастье. Не мешайте, пусть ждут и надеются. Пусть тонким, хрустальным звоном откликнется бокал бокалу.
«С Новым годом» — и я так скажу кому-нибудь в те полночные 12 часов, когда сяду за стол и буду ожидать этот вечно молодой, всегда юный Новый год.
Но это случится через несколько дней, в тот таинственный стык декабря и января, который с таким нетерпением ожидают всюду, и в моей холодной, снежной и горемычной России, и там, где сейчас пышно цветут орхидеи, и во всех местах, где только смог приютиться человек.
Бокалы еще не налиты. И мне немножко, совсем чуть-чуть грустно. И я вытаскиваю свои старые записки. Я буду рассматривать их, поищу, где, что и когда случилось такое, что поразило меня в такие вот предновогодние дни.
Мне хочется прочитать из моего прошлого, и я натолкнулся на одну запись, она меня остановила, и я ярко представил себе, как это было. Это относилось к ласточкам, быстрым, таким уютным и красивым птичкам. Я пошел дальше, и выбрал из старых записей еще одну — о скворцах. Почему? Я и сам хорошенько не разбираюсь, почему я так сделал, но мне хочется именно рассказать о ласточках и скворцах, рассказать так, как это было, как я видел и пережил.
— Да это же не новогодний сюжет? — может воскликнуть читатель.
— Да, — смущенно отвечаю я. И прошу: — Но все равно, сделайте милость, послушайте. Хотя бы потому, что все это сама жизнь, и мне немножко грустно, и в том, что я буду передавать вам, — есть какой-то свой, сокровенный смысл…
1 ЛАСТОЧКИ
С ними я очень коротко знаком. Я наблюдал их жизнь совсем близко, много-много лет подряд. Знакомство это началось в крохотном именьице моей мамы. Такие именьица у нас назывались «фольварками».
Уже с детства я привык к тому, что с самых первых весенних дней в одной раме кухни выставляли верхнее стекло, «шибку», как говорили у нас. И после этого я часто забегал в кухню и с любопытством спрашивал:
— Нету?
— Нету, нету, ради Бога, не мешайтесь тут… Скажу…
Иногда приходила на кухню мама, садилась на широкую скамью и обращалась к старенькой, крохотной поварихе:
— А что, Магда, нету еще?
— Нету, пани Юстя, нету… Вот-вот должны быть…
Я стоял у дверей и слушал, как говорила мама с Магдой, старенькой поварихой, о том, что вот уже скоро прилетят ласточки.
В какой-то день старушка Магда прибегала и взволнованно, как бы боясь кого-то потревожить, шептала:
— Пани Юстя… тут…
Мама, Магда и я осторожно спускались в кухню, тихонько открывали дверь и видели: на проволоке, невдалеке от печки, сидели две ласточки. Они сидели молча, и видно было, как они устали. Потом они начинали чуть слышно щебетать о чем-то своем, крутили головками и игрушечно-блестящими глазками поглядывали в уголок, проверяя, свободно ли там место, где у них столько лет подряд было гнездо.
Отдохнув, ласточки улетали. И пропадали несколько дней. Но нас это не тревожило. Мы знали, что таков ласточкин порядок. Сделав нечто вроде заявки, сказав хозяевам, что, дескать, мы уже здесь, не беспокойтесь, все в порядке, они несколько дней носились в весеннем воздухе, делились новостями со знакомыми и родственниками и в какой-то свой день вновь впархивали в кухню и без разговоров принимались мастерить гнездо. Не для себя, для своих детей.
У меня было много времени для наблюдений. Я часами сидел и смотрел на птичьи хлопоты. Я видел, как быстро растет земляной домик-шкатулка. Наконец, в одно утро я обнаруживал, что из отверстия шкатулочки выглядывает темная, остренькая головка, и тогда бежал наверх, к маме.
Мама спускалась в кухню и говорила:
— Села, голубушка. Ну, с Богом…
А ему-то, хозяину шкатулки, сколько было хлопот. Она в гнезде спокойненько сидит; он мелькает сквозь шибку вынутую взад и вперед, все носит ей мошек. Иногда он втискивается в домик, и она вылетает погулять. Ему нравилось там сидеть, но она скоро возвращалась и сердито что-то говорила ему. Он делал вид, что не слышит и даже головку прятал, просил оставить его в покое. Тогда она цеплялась своими ножками-проволочками за край гнезда и происходило недоразумение: она его щипала, дергала, иногда даже перышки вылетали оттуда. Но все же право было на ее стороне: он скоро вылетал, садился на проволоку, приглаживал взъерошенные, потрепанные перышки, щебетал и исчезал с тем, чтобы как ни в чем не бывало вернуться с мошками. И она его встречала ласково, охотно забывая маленький семейный разлад…
Шли дни и недели. И наступало время, когда мама и Магда стояли у гнезда и слушали легкое попискивание в глиняном теремке.
После этого наступала самая тяжелая пора для родителей пяти птенцов. Теперь и он и она беспрерывно мелькали сквозь окно, и их вое время встречали широко открытые, еще желтенькие клювы птенцов. Кормежка шла с утра до сумерек. Беспрерывно.