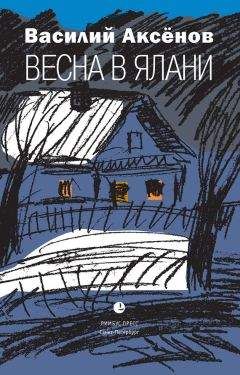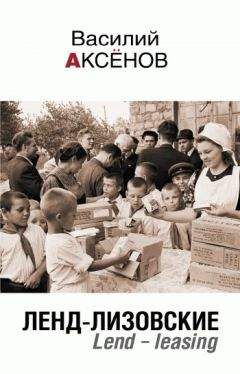Ознакомительная версия.
Помнит Коля и бабушку Минодору Сергеевну, жену Алексея Павловича.
– Посекут меня, в огонь бросят! – говорила она, когда была трезвая. – Не бери, внучок, пример с баушки.
А чуть где выпьет, идёт домой, пошатываясь, и напевает песенку такую:
Хаз-Хаз, голубец,
Не гоняй моих овец.
Они куплены,
Попы луплены.
У барана попа драна,
У овечки малахай.
Насуёт, бывало, полную печь пирогов, закроет заслонкой, перекрестит и скажет:
– Матушка-печка, разукрась своих детушек, сделай их всех румяными.
Вымоет в бане его, Колю, одевает в рубашку и приговаривает:
– Мыла рабёнка в жаришше-паришше. Как из каменки пар, как дым из трубы, так скорбушки-болезни покиньте детоньку. А ты скачи, детка, конём-жаребцом, летай орлом-соколом! Хворать не вздумай! Не огорчай меня и Пантилимона.
Возила она, помнит Коля, его к сестре своей, Марии Сергеевне, в город, водила в церковь. Перед всеми святыми постоит. И фамильярно, по словам сестры её, будто к друзьям своим, к ним обратится:
– Мученик Антипа, сохрани мои зубы от боли…
– Спаси от пожара, неопалимая Купина-Владычица…
– Флор-Лавер и мученик Власий, сохраните бычка и обеих коровушек от падежа и всех овечек да и кур…
– Илья-пророк, пришли послезавтра дожжика… а то я мелочь всю посеяла.
– А ты, святой Вонифатий, отврати мужа моёва от хмельного зелья… – Жив тогда ещё был Алексей Павлович и прикладывался помаленьку, но частенько.
За всех просила по специальности и принадлежности. Евангелиста Луку, помнит Коля, благодарила она тогда за прошлогодний хороший урожай репы.
Плела она, Минодора Сергеевна, личинки для сеток от комаров из конского волоса. Носила, пешком всегда, никакой транспорт не признавала, по соседним деревням, продавала. Денег немного выручит, купит чикушечку с прибытку, у кума ли своего в Сретенске вусладь напотчевается и отправится в обратную дорогу. Не ходи в ночь-то, скажут ей, переночуй у нас, мол. А она в ответ: кого, дескать, бояться! Ну, раз поймали её какие-то беглые, снасильничали, над старой надсмехнулись. Да хорошо, мол, с Ялани почтальён с почтой на лошади ехал, колоколец они услышали, а так бы и убили, чтобы свидетельшу-то ликвидировать, её в живых-то не оставить.
После этого заболела Минодора Сергеевна. Слегла. Перед смертью уже, за неделю или за две, соберёт всех родных к своей постели, помнит Коля, рассмотрит каждого внимательно, узнает и после спросит: а где тот-то, мол, а тот-то где, мол? – это об умерших давно уже. После и тех уж видеть стала. Лежит, смотрит с постели на собравшихся, мимо ли них, и говорит: а ты, Захаровна, помолодела, дескать. Или: а где жана твоя, Игнатьич, пошто один-то? А потом, дня за два до смерти, сказала своему сыну, отцу Колиному: вези, мол, меня, батюшка, на родину. Тот ей: да ты и так на родине, мол, мама. Нет, мол, какая ж это родина, на родине мои родители и муж мой, и там тепло всегда, не то что тут, мол.
Пришлось везти.
– Лет уже двадцать как на родине – тепло ей.
«Иду, иду». Кто-то позвал, она откликнулась. Это последние её слова на этом свете. Произнеся их, отошла.
Не посекли её, наверное, в огонь не бросили.
Накопила она к смерти кучу денег – каких там только не было – и царские, и дореформенные, и керенки. Скажет ей Галина Харитоновна, когда та их, бывало, достав из-за божницы, станет пересчитывать: мама – мамой она называла свекровку, – они же, деньги-то твои, уже негодные, мол. Как это негодные, возмутится Минодора Сергеевна, они же, девка, заработанные, это, мол, сами вы негодные – так говорите.
Оно и верно, деньги-то были заработанные.
Вошёл Коля в ограду.
Мать, Безызвестных Галина Харитоновна, в девичестве Черкашина, старуха лет восьмидесяти, на крыльце. Подоткнув подол и опустившись на колени, скоблит она острием топора, будто теслом или рубанком, крылечные сосновые плахи, водой их тёплой прежде намочив – чтобы отмякли. Палочка-конь её возле двери – чуть потянуться – и достанешь.
Десять лет назад они, мать и Коля, – отец тогда уже болел сильно и на покос с ними, о чём переживал очень и совестью, по словам матери, шибко мучился, не ходил – метали зарод на дальнем, в Межнике, покосе. Коля закидывал длинными двоерогими деревянными вилами сено, а мать, стоя на зароде, заодно его и утаптывая, чтобы – дожжи направятся, дак – не пролило, принимала граблями и раскладывала это сено, как полагается, затем вершила. Закончив работу, собралась Галина Харитоновна спускаться на землю. Предложил ей Коля воспользоваться верёвкой, с помощью которой подвозил на коне к зароду копны и которую он уже одним концом забросил к ней наверх. Так это делалось обычно – всегда спускались по гужишшу. Мать почему-то отказалась. Ну, как на притчу. Села она, Галина Харитоновна, на зарод и, свесив ноги, покатилась вниз по его крутому и гладкому боку. Подвернулась, как на грех, сухая крепкая дудка – ствол от пучки или дидилёвки – и глубоко вонзилась ей в стегно, проткнув чулок и шаровары, – в мякоть ноги выше колена. Дудку Коля тут же выдернул. И кровь не сильно вроде шла из раны. Лист какой-то, с одной стороны зелёный, а с другой – белый и ворсистый, к ней приложили – может быть, мать-и-мачехи, а может, и медунки. Не помнит Коля. Мать нашла его в колке, она срывала. Но стала нога с той поры сохнуть. Теперь – как сук еловый, одна кось. Вот и ходит она, Галина Харитоновна, только с палочкой, хромает. Сама пока с хозяйством управляется – и с огородом, и с коровой. Коля лишь сено и дрова на зиму заготавливает, на два дома, да во дворе убирает, навоз из стаек выбрасывает, когда в добром здравии, а не в загуле. Снег с крыш сбрасывал, только не нынче, нынче в тайге был в это время, караулил. Нынче мальчишек Луша нанимала. Те быстро справились. С картошкой тоже Коля помогает – и посадить её, и выкопать.
– Здорово, – говорит Коля.
– За это время натопталось так, как снег растаял, вроде одна тут и шатаюсь, больше-то некому… Здорово, – отвечает мать.
– Я бы поскрёб, ты бы сказала.
– Ну, вот ишшо. В силах пока, не одряхлела. Потом доделаю, – говорит Галина Харитоновна. – В сенях разуешься. В избах намыла. Заходи.
– Да я на улице побуду. Хорошо тут… Чё ты хотела?
– Да, благодать. Нигде ни облачка, тепло… Подольше так бы постояло… Воротца, Кольча, плохо открываются и закрываются.
– Какие?
– В огородчик. Поправил бы. С петлёй там чё-то…
– Ладно.
– Вот чё ишшо, – говорит Галина Харитоновна, освобождая из-под резинки на поясе – когда-то чёрных, а теперь серых от долгой службы и частой стирки – сатиновых шаровар, с резинками же и на щиколотках, подол штапельного в зелёный цветочек платья и вытирая о подол руки. – Помело совсем уж обтрепалось, одни прутья… нечем в печи мне подмести. Не сбегашь в лес, не наломашь?
– Чё, прямо счас?
– А чё тянуть-то? Скоро и Пасха, стряпать буду.
– Ладно.
Ростом невеликая, подвижная Галина Харитоновна в отличие от сына. Глаза живые, голубые. Говорит:
– Тебя твоя, поди, не кормит? – и улыбается.
– Кормит, – говорит Коля.
– Ага, я вижу, спал с лица, осунулся. Пошли, поешь.
– Я не хочу.
– Ишшо в лесу-то пробыл столько, всё всухомятку, без горячего…
– А я готовил, – говорит Коля.
– Да уж кого там, представляю, – говорит Галина Харитоновна. – Мужик есть мужик… Суп у меня с кракадэлками и мармашелью, техтели с гречкой на второе. – Кому-то, может быть, и нет, но Коле хорошо известно, что кракадэлки – это фрикадельки, мармашель – вермишель, а техтели – тефтели, переводить ему не надо. Все русские, или давно уже ставшие русскими, слова Галина Харитоновна произносит почти правильно, а все нерусские примерно так. – Фарш в холодильнике лежал, с прошлого году там валялся, – продолжает она. – Мясо-то от того ишшо бычка, что забивал ты перед Новым годом… Идь ты же, думаю, и не постишься?
– Да чё-то нынче… Луша – да.
– Луша-то ладно, ей положено… Ну и решила, накормлю хоть, то отошшал там, как в тюрме.
– Потом. Попозже.
Стоят: Коля – возле крыльца, Галина Харитоновна – на крыльце. Крыльцо с перилами, но не высокое – лишь в три ступени. Плахи крыльца блестят на солнце – мокрые. Коля смуглый, в отца. Галина Харитоновна белолицая, волосы у неё были когда-то светло-русые, теперь седые, прядями выбились из-под платка.
– Пойдёшь ломать на помело, – говорит Галина Харитоновна, – не забирайся далеко-то. Тут уж где, с краю. Кедрушку близко где увидишь, есть же где рядом… Чтобы в болото-то не врюхаться, там счас воды – на лодке плавать.
Ознакомительная версия.