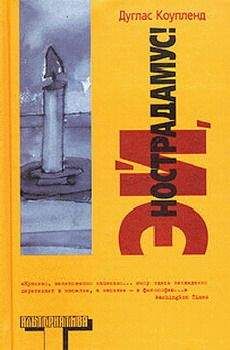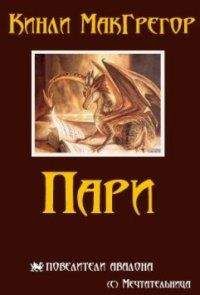Ознакомительная версия.
Больница выглядела жутко: повсюду на каталках возили раненых и умирающих, будто продукты в магазинных тележках. Мне до сих пор непонятно, зачем мы туда поехали. Знали ведь, что Шерил мертва. Боже, мы совсем ничего не соображали…
На улице стемнело, а я все еще оставался в спортивной форме. Кто-то — не помню точно кто — протянул мне куртку, и, застегивая ее, я услышал первые слухи о тебе. Дикие слухи. Дескать, с самого начала ты был зачинщиком, организатором всего преступления, и едва родители это услышали, как мама впала в истерику, и пришлось дать ей успокоительное — лошадиную таблетку барбитурата, вроде тех, что видишь в старых фильмах. Папа тоже чего-то наглотался. Они потом всю неделю жили на таблетках, а мать так до сих пор их и пьет. Я теперь даже знаю, когда ей нужна новая доза: она вдруг начинает часто и беспокойно дышать. Родители просто спятили, узнав, будто ты виноват в смерти Шерил. Я не раз пытался вступиться за тебя, но кончилось это тем, что меня чуть не вышибли из семьи. И чего ты сделал этим живчикам? Они готовы были тебя порвать.
Хуже стало потом, когда через две недели объявили, что ты непричастен к трагедии. Мама спятила окончательно, а вслед за ней и отец. Оба отказывались верить результатам расследования. Эти сам-знаешь-кто неплохо над ними поработали.
Знаешь, это самое длинное письмо в моей жизни. Говорят, ты переехал или даже сбежал из города. Везучий! Можно и я к тебе сбегу?
Держись, дружище.
Крис.
Из окна кофейни я наблюдаю за закатом цвета детского аспирина и наконец глотаю две таблетки клоназепама, которые я купил по двадцать пять долларов за штуку у мальчишки-арапчонка, торчавшего за рулем папашиного «БМВ» на пересечении Лонсдейла и Четвертой авеню — всего за четыре квартала от маминого дома.
Господи! Теперь уже я сам чувствую, будто готовлюсь к сеансу у психоаналитика. Только никакого аналитика не будет. И вообще, человеку, который в моем возрасте занимается тем же, что я, нужен не аналитик, а иное. Возможно — деньги. Помню, Кент напился вдрызг на своей свадьбе, и когда мы танцевали — он с Барб, а я с ее лучшей подругой, — он нагнулся ко мне и, дыша в лицо шампанским, куриной грудкой и овощным рагу, сказал: «Не быть тебе при бабках — ты богатых не любишь». Сказал и унесся в танце. А ведь он был прав: я действительно не люблю богачей с их ваннами, где есть встроенные полки для полотенец, нагревающиеся специальной системой, которую производят в Шотландии — в Шотландии! — огромными холодильниками с немагнитной поверхностью, чтобы отучить домашних от глупых магнитных фигурок, и с обувными шкафчиками из красного дерева, от которых пахнет сауной.
Вот моя ошибка: я установил полку для полотенец на другую сторону ванной, и Лес обругал меня, потому что заказчик не собирается платить, пока не переделают, как он хочет. Мне плевать, хоть я и виноват. Тем не менее и Леса можно понять: он зол на весь мир, потому что у его ребенка катаракта — но, с другой стороны, боже правый, это всего лишь полка для полотенец, заказанная каким-то типом, которому по непонятной причине с утра нужно вытереться горячим полотенцем. Как можно принимать это всерьез? Даже если представить, что нагреватель проработает десять лет, все равно теплое полотенце поутру обойдется богачу дороже восьмидесяти центов за штуку.
$ 3000,00/(365 х 10)= 0.82
И вообще, друзья не ссорятся из-за полотенец или полок в ванной — во всяком случае, в моем представлении. Хотя при чем здесь мое представление: меня даже автоматические двери в супермаркете не признают. Приходится брать от жизни что получается. Я улыбаюсь, несмотря на то что киплю внутри. Ухожу с работы на несколько часов раньше. Покупаю амфетамины у торговца на автостоянке. Взлетаю и думаю о том, как возвеличить человека. Потихоньку прихожу в себя. Покупаю еще амфетаминов, но кайф уже не тот: собаки продавцы наверняка разбавили их сахаром. Потом вдруг думаю: «Ни хрена себе! Я встретил два рассвета, проводил два заката и еще ни разу не прилег!» Жму на тормоза. Покупаю клоназепам у иранского прохвоста. Сижу в кафе и пишу на розовых квитанциях. Пора к маме. Время вызволять Джойс.
Сейчас утро — если судить по тому, что «Макдональдс» еще не переключился на обеденное меню. Сижу, завтракаю. Жирные капли насквозь пропитали розовые счета и превратили их в расписанные матовые стекла.
Голова свежа, как холодное горное озеро. Неужели я и вправду проспал двенадцать часов? Пожалуй, я сегодня и на работе покажусь, чем надеюсь привести Леса в такой щенячий восторг, что забудет про шесть грозных сообщений, которые он успел наговорить на мой автоответчик.
Так вот, племяшки, приехав к своей матери, я наткнулся еще и на вашу — на Барб. Она стояла облокотившись на кухонную стойку и оживленно обсуждала, почему Редж такая сволочь, — тема, над которой мама давно думает.
Им хватило одного взгляда в мою сторону.
— Ты! — выдохнула мама. — В душ! Немедленно! Как помоешься, переоденься: одежда в шкафу. У меня остался суп из цветной капусты и французский батон. Поешь и сразу спать, понял?
В ванную доносились обрывки разговора.
— Ты знаешь, мне поначалу нравилось, что в его семье выращивали нарциссы… растят и по сей день. Я восхищалась ими… Мне казалось, только хорошие люди выращивают цветы.
— А что тогда растят плохие люди?
— Не знаю. Мхи. Лишайники. Мухоморы. Разводят летучих мышей. А нарциссы… бледно-желтые, самые нежные цветы на свете. Они родственны луку, ты знаешь об этом?
— Нет.
— Вот видишь. Век живи, век учись.
— Нарциссы… Не те ли это цветы, которые по преданию не то чтобы плохие, но и не совсем безгрешные… Тщеславные, что ли?
— Знаешь, как Редж бы ответил на твой вопрос?
— Как?
— Он бы сказал: «Кто мы такие, чтобы наделять людским грехом гордыни ни в чем не повинные цветы, которым всего-навсего дали неудачное имя?»
— Великодушно с его стороны.
— Правда, взглянув на цветы на нашей свадьбе — в основном это были тропические растения, — он назвал их блядскими.
— Надо же!
Когда я вышел из ванной, женщины пристально оглядели меня. Мама протянула апельсиновый сок:
— На-ка, выпей. Твой организм взывает о витамине С.
А потом, ставя тарелку с супом на стол:
— Джейсон, когда же ты побреешься? О твою щетину впору ножи точить.
Им и невдомек, что в эти минуты я ощущал себя попавшим в рай.
— Когда Редж изменился? — спросила маму Барб.
— В смысле — ушел в религию?
— Да.
— Наверное, через год после рождения Кента. Непонятно с чего. Джейсон, милый, подложи салфетку, я только что вымыла пол.
— В один день?
— Нет. Я помню, как лицо его постепенно ожесточалось. Наверное, все дело в серотонине. Если бы я тайком подсыпала ему в кофе велбутрин, про который сейчас распинаются в рекламе, мы бы остались счастливой парой. А так он отчуждался все больше и больше. К тому времени, как дети пошли в школу, мы спали в разных кроватях. Я уже крепко пила. Он не возражал: пьяная, я оставалась на месте, и со мной можно было не разговаривать. Не то чтобы мне было о чем с ним говорить…
Только что позвонили по сотовому. Пора идти. Лес говорит, нам перевели деньги за работу, так почему бы не отпраздновать? Сейчас одиннадцать утра.
После предыдущей записи прошло шесть дней. Вот отчет о моих похождениях, насколько я могу их вспомнить.
Мы с Лесом пошли в «Линвуд-инн», трактирчик для портовых рабочих, ютящийся под мостом Секонд-нэрроуз. Не знаю, от жары ли или от несъедобных куриных крылышек, но к часу дня нас изрядно развезло. Тут в трактир зашел крысеныш Джерри, портовый ворюга, которого, я в последний раз видел во время суда в 1992 году: тогда в его пикапе нашли полный багажник украденных лыж. Он купил нам кувшин пива, расплатившись банкнотами из туго свернутой пачки, а потом сказал, что у него есть катер на продажу — шестнадцатиметровое суденышко с двигателем в пятьдесят лошадок, и предложил прокатиться.
Посудина и впрямь оказалась милашкой, причем очень просто устроенной: корпус, двигатель, ветровое стекло да рулевое колесо — ну прямо плавучая «хонда-сивик». Оцинкованное дно покрыто кристаллами соли; лопасти винта вспенивают изумрудную воду и мешают ее с голубоватым дымом.
Гавань была забита торговыми судами. Матрос с одного из них, ржавой китайской громады, чем-то в нас кинул — скомканным обеденным пакетом или еще какой-то ерундой, — но Джерри воспринял это как личное оскорбление, подрулил к борту китайского сухогруза размером с десятиэтажный дом и начал орать по-китайски.
— Джерри! Где ты выучился китайскому?
— У своей бывшей. Одиннадцать лет супружеской жизни — и у меня остались только китайский, гепатит С да мастерское обращение с дарами моря.
Матрос наверху исчез, и мы начали уговаривать Джерри убраться подобру-поздорову, однако он и слушать нас не хотел. Матрос появился вновь и теперь запустил в нас чем-то походившим на краюху хлеба — не знаю, что это было, только оно оказалось тяжелым, как чугун, и пробило в корпусе дыру размером с тарелку. Катер мгновенно затонул, а мы поплыли к берегу, туда, где виднелось Саскачеванское зернохранилище. Нашли старые ржавые ступеньки, вскарабкались по ним и оказались на грязной железнодорожной сортировочной станции. После прибрежной воды нас покрывала пленка машинного топлива, к которой легко приставала серая пыль, как мука к треске. Лес неистовствовал: жена годами пилила его за дурной вкус в одежде, и сегодня он впервые надел брюки, которые супруга для него купила.
Ознакомительная версия.