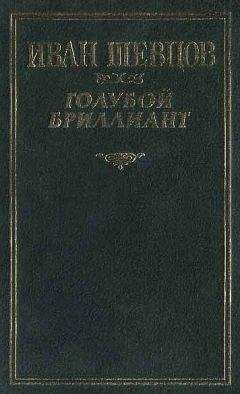- Мой капитан, как я рад, я бесконечно счастлив. Я часто вспоминал тебя, - взволнованно говорил Эдмон, и голос его переходил на шепот, словно ему не хватало воздуха, а глаза блестели благородной влагой. - Вспоминал, когда мне было трудно. А ты поверь, мне часто было нелегко, даже очень трудно. - И вдруг, спохватившись: - Познакомьтесь, пожалуйста, это кубинский товарищ из бюро путешествий сеньор Энрико - прекрасный юноша. Кстати, он учился в России и говорит по-русски. Отойдемте в сторонку, не будем мешать. Прекрасный музей, чудесная страна. А народ, какой народ… Куба превзошла все мои ожидания. - Восторгу Эдмона не было конца, он никому не давал вставить слова. Это было вообще в его характере - восторг и многословие. - На сегодня музей - антракт. В другой раз посмотрим, что не посмотрели. А сегодня, Энрико, у меня праздник: я встретил своего старого друга, однополчанина, боевого товарища. Ты знаешь, Энрико, что за человек перед тобой? Это легенда, историческая драма!
- Да что легенды, - с легким смущением перебил Слугарев: он терпеть не мог комплиментов или похвал, они его, как говорится, "вгоняли в краску". - Перейдем к были. Лучше расскажи, какая судьба тебя забросила на Остров Свободы?
- О, это целая история. Мне крайне, чертовски необходимо попасть на Остров дьявола, и чтоб попасть туда, я прибыл на Остров Свободы. Но об этом после, со всеми подробностями. Ты не представляешь, как я рад нашей встрече! Кстати, мой капитан, как прикажешь тебя теперь называть?
- Как прежде. Да ты уже назвал.
- Мой капитан! Прекрасно! Наша юность, неповторимая и позабываемая. Как будет рада Алисия, я ей о тебе много рассказывал. Я познакомлю вас - это моя жена. Вторая жена. С Элеонорой мы разошлись. Но об этом потом. Нам о многом нужно поговорить. Сто лет пролетело, да каких лет!
Казалось, его восторгам не будет конца. А поговорить и в самом деле было о чем. Но музей - не лучшее место для дружеской беседы, и они вышли на улицу. Слугарев с живым интересам рассматривал Дюкана и находил, что тот мало изменился. Нет, внешне он, конечно, очень изменился: исчезнувшая шевелюра обнажила крепкий череп, покрытый густым загаром, теперь Дюкан казался ниже ростом и шире в плечах. На подвижном лице отпечаталась густая сеть мелких морщин. Прежней оставалась торопливая походка, порывистые жесты, резкие движения, восторженный открытый взгляд, доверчивые глаза и неумение говорить спокойно. Вообще он принадлежал к категории людей, которые любят много говорить и не любят слушать. Это последнее совсем не задевало Слугарева, поскольку сам он умел слушать и был скуп на слова. Оказалось, что польский язык Дюкан не забыл, во всяком случае, говорил на нем сносно, и Слугарев с удовлетворением подумал, что услуги Энрико, как переводчика, им не понадобятся. Из музея они направились к набережной, и Дюкан продолжал говорить с прежним восторгом:
- Как справедливо поступило подлинно народное правительство Кубы: Фидель не засел в президентском дворце, он отдал его под Музей революции. Это символично! А в Капитолии - Академия наук. Пресса много писала о культе личности Кастро. Я прибыл на Кубу и убедился, что это ложь. Никакого культа я не нашел. Фидель - настоящий вождь, народный трибун. Народ верит ему, искренне уважает и любит его. Именно таким, как Фидель, я представляю себе революционера - вождя, который получив всю полноту власти, сумел подняться над личным во имя общенародного, во имя идеи. Зачем ему дворцы, бриллиантовые перстни и прочая мишура побрякушек? На нем скромный мундир солдата-воина. Скромность - это великое достоинство, к сожалению, редкое даже среди незаурядных людей. - Радость, душевный подъем, даже сладкий восторг, звучавшие в каждом его слове, передавались и Слугареву, и он с упоением слушал своего друга военной поры, и радость Эдмона отражалась и на лице Ивана Николаевича.
У каменного парапета Малекома они остановились. Энрико, сославшись на какие-то дела, оставил их на набережной и как-то незаметно удалился в сторону порта и, словно тень, растаял в людском потоке. А они с минуту постояли на набережной и затем пошли вдоль залива в противоположную сторону. Дюкан ходил быстро, мелкой торопливой походкой, - он всегда куда-то торопился и часто поводил плечами, словно одежда стесняла его, оттого движения его казались неловкими, угловатыми и резкими. Слугарев не прочь был познакомиться с женой Дюкана, но ему хотелось, чтоб их главная беседа проходила с глазу на глаз, без посторонних, он считал, что Алисия будет его стеснять, и поэтому на приглашение Дюкана немедленно, сейчас же пойти к нему в гостиницу "Абана Либре" он ответил молчанием, которое вполне сходило за знак согласия. Но когда они поравнялись с гостиницей "Националь", Слугарев сказал:
- Здесь я живу. Давай сначала заглянем ко мне, не проходить же мимо. - Он тепло заулыбался, и какая обезоруживающая изящная простота была в его дружеском взгляде и позе. - А потом, я очень хочу пить. Мы сейчас с тобой закажем прекрасного кубинского пива "Белый медведь".
- О, да, кубинцы делают отменное пиво, но мы будем пить его у меня, вместе с Алисией.
- Нет, Эдмон, - с наигранной усталостью, голосом человека, изнывающего от жары и жажды, возразил Слугарев. - Я не в состоянии сейчас дойти до "Абаны Либре". Передохнем в "Национале". У меня номер прохладный, окно выходит на залив. И тишина. - Слугарев говорил мягко, медленно, голос его звучал устало и умоляюще, и лицо казалось утомленным, измученным. И Эдмон поверил, согласился, однако при условии, что после "Националя" они сразу же пойдут в "Абану Либре".
- Я понимаю тебя: как всякий европеец, ты тяжело переносишь тропическую духоту, - сочувственно решил Дюкан.
- Добавь к этому - русский европеец, континентальный.
В тихом номере гостиницы они сидели в мягких низких креслах у круглого столика, на котором возвышалось металлическое ведерко, заполненное бутылками с пивом и льдом и вели теперь уже неторопливую беседу. Впрочем говорил в основном Дюкан. Не очень последовательно, часто забегая вперед и возвращаясь к внезапно оборванной мысли, он рассказывал нелегкую, полную драматизма жизнь журналиста-международника, убежденного поборника правды и справедливости в пронизанном ложью и цинизмом, преступном разбойничьем мире. Свой рассказ он в сущности начал с конца, с того, что привело его на Кубу. Мотаясь по странам Латинской Америки в поисках издателей, согласившихся бы издать его "Черную книгу", Эдмон Дюкан в Сан-Сальвадоре в одном из пивных баров случайно встретил Курта Шлегеля - того самого оберфюрера, с которым партизаны отряда Яна Русского сражались на польской земле и которого затем уже после войны Эдмон Дюкан встретил в Мюнхене.
- Представь себе, Янек, мы с Алисией зашли в пивной бар, сели за столик и вдруг Алисия говорит мне: "Обрати внимание на пожилого тучного сеньора, что сидит за столиком у окна: он внимательно наблюдает за нами". Это было за моей спиной. Я повернулся в сторону, указанную Алисией и увидел человека, который с откровенным вниманием смотрел на нас. Взгляды наши скрестились. Что-то очень знакомое бросилось мне в глаза. Уже с первой секунды я понял, что где-то встречал этого человека и возможно даже знаком с ним. Я отвернулся и поспешно напряг память. Толстяк продолжал смотреть в нашу сторону. Его бесцеремонная навязчивость становилась неприличной. "Кто это? Ты его знаешь?" - спросила Алисия с любопытством. "Не могу вспомнить… Но что-то чертовски знакомое", - ответил я, не поворачиваясь больше в сторону, где сидел этот странный сеньор. "Он идет сюда, - с нескрываемым беспокойством сказала Алисия. Надо заметить, что все эти годы мы жили в атмосфере постоянной тревоги и не то чтобы страха, а какого-то нервного напряжения. На это были и есть свои причины. О них я тебе расскажу. Так вот, толстяк подошел к нашему столику, поздоровался с деланной улыбкой и, обращаясь ко мне, сказал по-немецки: "Вы не узнаете меня, господин журналист? А я вас сразу узнал. Помните пятидесятый год, Мюнхен? После нашей встречи в Мюнхене вы репортаж напечатали. Меня там назвали. Впрочем, я не читал, хотя мне ваше писание доставило некоторые неприятности. Зол я был на вас, очень даже. Из-за вашей писанины мне пришлось покинуть Германию. Сначала жил в Парагвае, а потом обосновался здесь. И не жалею, все что ни делается, все к лучшему. Здесь меня никто не беспокоит". Он подсел к нашем столику запросто, без приглашения, словно мы с ним были старыми друзьями. Это был оберфюрер Шлегель, да, Янек, тот самый Курт Шлегель. Мне было интересно. Как раз перед этим мы с Алисией были в Парагвае, где есть целая община бежавших от возмездия нацистов. Там они живут преспокойно под крылышком своего земляка, президента-диктатора Стресснера. Было любопытно, почему же Шлегель уехал из Парагвая, где нацисты чувствуют себя в полной безопасности? На мой прямой вопрос он ответил взглядом, полным подозрения и недоверия и уклонился от ответа. Но, между прочим, сказал, что в Сальвадоре живет его старый приятель доктор Хассель. При этом слово "приятель" было произнесено так, что понимать его можно было наоборот, в лучшем случае "бывший приятель". Я так и подумал: между этими двумя убийцами пробежала черная кошка, чего-то не поделили. Шлегель преднамеренно сообщил мне новое имя Хасселя - Отто Дикс. При этом прибавил, что Хассель, то есть Дикс, сейчас служит у американцев по своей прежней специальности. Я попросил его уточнить профессию. На это он заговорщически сощурил глаза и скорчил многозначительную загадочную ухмылку, смысл которой не оставлял сомнений. Оберфюрер явно старался насолить своему бывшему приятелю, сказав между прочим, что нынешняя работа Отто Дикса представляет большой интерес для прессы. От него я узнал, что Отто Дикс проводит свои эксперименты на одном из безымянных островов в Карибском бассейне, что остров этот якобы является его частной собственностью. Каких-нибудь подробностей об этом острове - где конкретно он находится и как туда добраться, он не сказал: видимо, сам не знал.