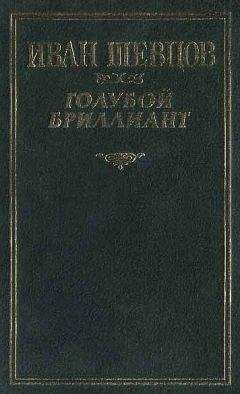Дюкан умолк, взял бокал с пивом, но пить не стал, лишь коснулся влажными губами ароматной пены и поставил бокал на место. Он волновался. Слишком много столпилось мыслей, которые он хотел высказать своему другу, слова не успевали за ними. Не глядя на Слугарева, он заговорил приглушенным голосом:
- Если Шлегель прав, то ты понимаешь, Янек, что все это значит? Нацистский изувер через двадцать лет после краха нацизма как ни в чем не бывало продолжает черное дело. Только уже с новыми хозяевами.
- Тебя это удивляет? Ты разве не знал, что американская военщина использовала гитлеровских ученых-палачей для разработки нового оружия? Ты не слышал об охоте янки за яйцеголовыми?
Дюкан не ответил, он будто не слышал Слугарева - печальная тоска наполняла его глаза, отчего взгляд казался отсутствующим, ушедшим внутрь. Слугарев обратил внимание на болезненное выражение его лица, говорившее, что на душе у него что-то мучительно и неладно. "Да, время понаставило автографов на рыхловатом, с болезненной желтизной лице Дюкана, - думал Слугарев сокрушенно, - расписало разными почерками-морщинами. Как он изменился, по крайней мере, внешне. Ни за что бы не узнал своего бывшего адъютанта, встреть его случайно на улице". И словно почувствовав пытливый взгляд Слугарева, Дюкан вздрогнул, встрепенулся, в один миг сбросил с себя груз тяжелых дум, тонкий луч смущения сверкнул в его глазах, и он произнес негромко, с непреклонной решимостью:
- Мне надо повстречаться с Хасселем-Диксом. Я должен, понимаешь, Янек, обязан. Мы с Алисией решили сделать фильм о врагах человечества, о вампирах двадцатого века, о тех, кто готовят всемирную катастрофу. Этому трудному, но благородному делу я посвятил всю свою жизнь. Оно стало моей судьбой, моей Голгофой. Я написал книгу, назвав ее "Черной книгой". Десять лет на это ушло. Ты что-нибудь слышал о ней?
- Нет. Я лишь читал твой "Польский дневник". Расскажи о "Черной книге", - мягко и дружески попросил Слугарев.
- Нет, мой капитан, рассказать невозможно. Все равно, что заново пережить. А пережить заново - сил у меня не хватит. Значит, единственное - прочесть. А как прочесть? Ни на русском, ни на польском не издавалась. Впрочем, как и на немецком, английском и моем родном французском. Зато охотно переводятся на разные языки такие бездарности, как Джером Сэлинджер, Сол Белоу, Джон Андейк, или как ярые сионисты Норман Мейлер, Бернард Меломуд.
- На русский, кажется, что-то переводилось этих авторов, - не очень уверенно заметил Слугарев.
- А почему бы и нет, - стремительно подхватил Дюкан. - Кто издатели, кто переводчики - вот вопрос. И одновременно ответ. - И вдруг без всякого перехода: - Судьба помотала меня по белу свету, со многими довелось встречаться, разговаривать. Насмотрелся, наслушался. В Тель-Авиве я брал интервью у Голды Меир в бытность ее министром иностранных дел. Тогда я еще только собирал материал для "Черной книги". Это было на приеме во французском посольстве. Голда о чем-то раздраженно разговаривала с коренастым, длиннобородым священником, похожим на евангельского апостола. Как потом я узнал, это был ваш соотечественник архимандрит Августин. Ты, наверно, слышал: в Иерусалиме есть православный храм - собственность вашей страны. При нем миссия советских граждан. Возглавлял ее в то время архимандрит Августин, с которым я потом познакомился. Симпатичный человек с глазами, источающими доброту. Мирское имя его Константин Судоплатов. О нем я упоминаю в своей книге, как и о беседе с Голдой Меир. Так вот, Голда предлагала архимандриту Августину со всей его миссией отказаться от советского гражданства и за такое предательство обещала ему златые горы, архиерейский сан и божью благодать. Тихий блаженный старик отвечал ей мягко, ласково, но непреклонно: "На все воля Божья. Однако ж Господь осуждает тех, кто польстится на тридцать сребренников". Слова его ввергли властную даму во гнев, и она бросила в лицо архимандриту злые слова: "Оставьте, ваше преподобие, не стройте из себя святошу, капитан Судоплатов. Я же знаю - во время войны вы были начальником штаба полка". - "Я сын Отечества и выполнял свой долг. И вам, конечно, тоже известно, что до войны я был школьным учителем". Предательство не состоялось, и это удручило тельавивского министра иностранных дел. Как раз в это время один мой парижский приятель представил меня мадам Меир. Она поинтересовалась, не родственник ли я Франсуа Дюкану, погибшему от рук нацистов. Я сказал, что я его сын. "О, ваш отец был блестящий публицист, - с похвалой отозвалась Голда, - я помню его огненные памфлеты, изобличающие нацизм. Надеюсь, вы достойный продолжатель своего отца?" - "Эдмон занимается тем же", - сказал мой приятель. А я сказал, что меня беспокоит тот факт, что многие нацистские преступники избежали наказания и теперь преспокойно проживают в США и Латинской Америке. "Немцы в неоплатном долгу перед нашим народом", - сказала Голда Меир. "Вы имеете в виду нацистов?" - уточнил я. "Нет, всех немцев, без исключения", - ответила она. "Не означает ли это, что все евреи должны отвечать за преступления сионистов?" - сказал я. Ох, ты бы посмотрел, как вспыхнула мадам Меир. Она охватила меня испепеляющим взглядом, готовая распять меня, раздавить. Процедила сквозь дрожащие губы: "Сионисты никогда не совершали никаких преступлений, никогда. Их преступления создает больное воображение психически неполноценных антисемитов". Она резко повернулась и удалилась от нас.
Эдмон умолк, а лицо его вдруг озарила какая-то странная улыбка, словно лучик выхватил из подвалов памяти нечто неожиданное, важное, нужное как раз кстати. И он сказал, вопросительно устремив взгляд на Слугарева:
- Я не помню: кажется, я писал тебе об институте невест под Тель-Авивом. Я показал этот институт в своей "Черной книге", и это очень пришлось не по душе многим власть имущим, и не только в Израиле, потому что за этим учебным центром стоит другой институт, не учебное заведение, а как стратегия пути к мировому господству - институт жен. Это древняя стратегия - система, испытанная и проверенная опытом, мощное оружие в руках сионистов, оружие, которое они стараются держать в секрете. А я его обнародовал в той же "Черной книге".
- Вот почему у твоей книги так много врагов, - задумчиво промолвил Слугарев. Груз, который внезапно обрушил на него Дюкан, был столь весом и сложен, что требовал немалого времени, чтобы разобраться в нем, проанализировать и понять.
- Враг один, но в сегодняшнем мире он самый главный и самый страшный враг человечества - сионизм, с его триллионами долларов, тоннами золота, платины, алмазов, с дьявольской машиной оболванивания и растления, с изощренными средствами массового уничтожения людей. Это звероподобное чудовище страшнее нацизма, потому что во сто крат старше его, - по страницам историй за ним тянется омерзительная цепь преступлений, и след от нее - это сгусток крови, слез и страданий людских. Это чудовище, объявив себя божеством, сегодня идет напролом к своей цели мирового господства, все сметает на своем пути, втаптывает в грязь общепринятые в цивилизованном обществе моральные, юридические и прочие нормы и законы. Это чудовище ввело в практику государственных институтов цинизм, жестокость, лицемерие и готово пойти на риск термоядерной войны. Я видел его работу не только в Палестине, видел в Америке, видел у себя на родине. Да-да, не удивляйся, Янек, видел во Франции. Как они делают гениев из своих бездарных ничтожеств, отвратительных жаб, каракатиц, физических и нравственных уродов, и как душат, травят, уничтожают подлинные национальные таланты - носителей всего здорового, светлого, народного.
Он с каждой фразой все больше возбуждался, взгляд становился беспокойным, в глазах засверкали тревожные огоньки. Он не говорил, а словно выстреливал напряженные, искрящиеся огнем гневные слова. Слугарев обратил внимание на его голос - необыкновенно молодой, юношеский, со звоном. Лицо его как-то сразу преображалось, распрямлялось, стирая сеть морщинок, становилось гордым и симпатичным.
- Это было в Париже. В опере дебютировала молодая необыкновенно талантливая балерина - француженка. В почетной ложе сидела ее соперница - старая, похожая на бабу-ягу представительница богом избранного народа, вокруг которой в течение многих лет сионистская реклама создавала ореол славы и совершенства. Создавать рекламу они мастера. Подберут в публичном доме смазливую девчонку, наглую, развязную истеричку с испитым голосом, отмоют, причешут, пригладят, размалюют, сунут в руки микрофон, выпустят на самую фешенебельную арену, объявят звездой века, и доверчивая, неискушенная, наделенная стадным инстинктом публика будет беситься от восторга, вздыхать, ахать и охать. И для нее эта девка, лишенная даже намека на талант, с ее пошлыми куплетами, такими же пошлыми, как и ее манеры, станет эталоном вокала. Вспомни перуанскую певицу - авантюристку Иму Сумак. Сколько лет эта женщина-птица, как называла ее сионистская реклама, дурачила доверчивых простаков, зарабатывая на их невежестве миллионы. А ведь она, говорили, чуть ли не ваша соотечественница, родители ее выходцы из Одессы. - Руки его метались в беспокойном порыве и дрожали. Он вдруг сообразил, что в спешке, под напором скопившихся мыслей и чувств, ушел в сторону, но сделал виноватую паузу и продолжал: - Да, о балерине. Треть зала - клакеры, профессиональные, надрессированные. У них задание - унизить, оплевать и растоптать молодую талантливую балерину, восходящую звезду национального балета, и одновременно воздать хвалу старой вульгарной танцовщице, некоронованной королеве балета, богине Сиона. И вот представь себе, Янек, чарующую музыку и юную фею - Джульетту, чистую, непорочную, с душой возвышенной, с ясным мечтательным взором. И в самые трогательные минуты в притихшем зале раздается глупое дурацкое хихиканье, преднамеренный кашель, хулиганский смех, пьяный говор. Это клакеры принялись за работу. Публика, конечно, возмущена, нескольких наемников удаляют из зала. Но каково ей, молодой балерине. И вот финал, зал стоя рукоплещет, очарованный и потрясенный великолепием таланта. Раздаются восторженные возгласы: "Браво!" Молодая балерина выходит на авансцену, по проходам к сцене бегут зрители с букетами цветов и, добежав до сцены, во все глотки орут не имя дебютантки, а имя старой танцовщицы и бросают ей в ложу цветы. Представляешь: не дебютантке, а ее сопернице. Так работает клака.