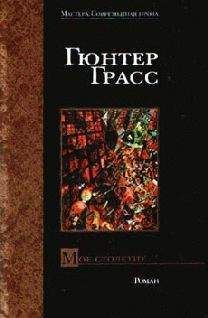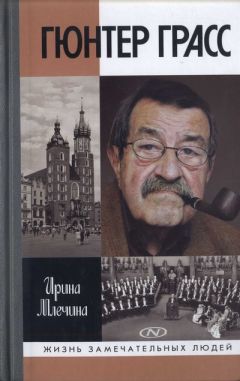Вообще-то этих людей надлежало немедленно объявить нетрудоспособными и освободить от работы, однако доктор Брёзинг, который сам же называл предложенный правлением стройки темп «безответственным» и даже, в разговорах со мной, «убийственным», хотя в остальном казался человеком вполне аполитичным, не спешил с увольнениями, так что больничный барак у нас всегда был перегружен сверх всякой меры. Он, если можно так выразиться, буквально накапливал пациентов, то ли чтобы исследовать клинику «болезни землекопа», то ли чтобы привлечь внимание к подобным неурядицам.
Но поскольку недостатка в рабочей силе не было, первый участок автотрассы все-таки завершили вовремя. 19-го мая состоялось его торжественное открытие в присутствии фюрера, высоких партийных чинов и при участии более чем четырех тысяч рабочих. Только погода, как на грех, выдалась ужасная. Дождь сменялся градом. Лишь изредка проглядывало солнце. Однако фюрер, стоя в своем открытом «мерседесе» и приветствуя сотни тысяч зрителей то прямой, то согнутой рукой, проехал вдоль всего участка. Ликование было безмерным. Оркестр снова и снова играл Баденвейлерский марш. И все, от генерального инспектора доктора Тодта до любой колонны землекопов, сознавали величие момента. После краткой благодарственной речи фюрера, адресованной «работникам руки и мозга», от имени всех, участвовавших в строительстве, высокого гостя приветствовал машинист Людвиг Дрёслер, и среди прочих слов сумел отыскать также и эти безыскусные слова: «Созданием этой автотрассы, вы, мой фюрер, дали жизнь начинанию, которое и спустя столетия будет свидетельствовать о жизненной воле и о величии этого времени…»
Затем, после незначительного улучшения погоды, дистанцию освободили для автокорсо, во время которого и к великой радости зрителей, пыхтя и стреляя, участвовали как совсем древние, так и всего лишь позавчерашние машины, кстати, и доктор Брёзинг проехал на своем не менее чем десятилетнем двухместном «опеле», который, вероятно, был когда-то покрыт зеленой краской. Впрочем, он полагал, что в официальных мероприятиях участвовать не обязан; куда важней было для него ближе к вечеру обойти больничный барак, мне же дозволялось, как он выразился, присутствовать при «парадной чепухе».
К сожалению, он не смог опубликовать ни в одном медицинском журнале свой отчет о «болезни землекопов», даже «Тевтония», листок нашего товарищества, не приведя никаких причин, отказался его напечатать.
Недостатка в людях, вселяющих надежду, не было никогда. У нас, например, в лагере Эстервеген, достигшем определенной известности благодаря песне «Болотные солдаты», где повторяющийся рефрен неизменно использует рифму «солдаты — лопаты», с весны тридцать шестого ходили слухи, что перед началом Олимпийских игр всеобщая амнистия положит конец нашему жалкому прозябанию в Эмсланде на правах вредителей и торфорезов. Слух этот покоился на благочестивом убеждении, будто Гитлер не может не считаться с заграницей, будто время устрашающего террора миновало, и вдобавок торфорезка, как исконно немецкое занятие, должна быть передоверена добровольцам из Арбайтсдинста [30].
Но потом вдруг пятьдесят заключенных, все сплошь профессиональные ремесленники, были откомандированы в Заксенхаузен, неподалеку от Берлина. Там мы под охраной эсэсовцев из военизированных объединений «Мертвая голова» должны были возвести гигантский лагерь площадью в тридцать гектаров, рассчитанный поначалу на две с половиной тысячи заключенных. Как чертежник-проектант я вошел в группу откомандированных торфорезов. Поскольку готовые части бараков поставлялись одной берлинской фирмой, мы получили возможность минимальных, обычно строжайше запрещенных контактов с внешним миром и могли наблюдать некоторые проявления суеты, царившей в столице рейха перед самым началом Олимпийских игр: туристы со всего света заполонили Курфюрстендамм, Фридрихштрассе, Алекс и Потсдамерплац. Но больше никаких сведений до нас не доходило. Лишь когда в караулку только что сооруженного барака комендатуры, где располагалось строительное начальство, провели радио, мы получили возможность изредка наслаждаться этим техническим усовершенствованием, с утра до позднего вечера передававшим пафосные репортажи с церемонии открытия, а потом и первые результаты состязаний. Поскольку я, когда один, а когда с другими, должен был довольно часто являться к строительному начальству, мы были более или менее в курсе того, что происходило в начале Игр. А когда при объявлении первых результатов финальных состязаний аппарат вкрутили на полную мощность, так что громкости хватало и на весь апельплац, и на соседние стройки, многие из нас могли собственными ушами услышать про дождь медалей. Кроме того, мы услышали, и кто там сидит на почетной трибуне: сплошные деятели из разных стран, в частности, шведский наследный принц, итальянский кронпринц Умберто, британский статс-секретарь Вэнситтард, вдобавок целая свора дипломатов, среди них многие из Швейцарии. По этой причине мы надеялись, что от многочисленного зарубежного представительства не укроется сооружение гигантского лагеря подле Берлина.
Но миру не было до нас никакого дела. У спортивной «Молодежи мира» хватало собственных забот. Наша судьба никого не волновала. Нас как бы вообще не было. Лагерные будни протекали своим чередом, если отвлечься от громкоговорителя в караулке. Ибо этот защитного цвета и явно заимствованный у военных прибор приносил нам сведения из мира, который существовал по ту сторону колючей проволоки. Уже 1-го августа толкание ядра и бросание молота принесли нам две золотых медали. Мы с Фритьофом Тушински, «зеленым», как его называли из-за цвета нашивки, которая полагалась уголовникам, были как раз в строительном управлении, чтобы внести некоторые коррективы в чертежи, когда по радио сообщили о второй золотой медали, что со всей возможной громкостью было отпраздновано эсэсовцами в соседнем помещении. Но когда Тушински решил, что и ему тоже можно ликовать, на него упал взгляд руководителя работ, хаупт-штурмфюрера Эссера, который пользовался репутацией человека жестокого, но справедливого. Если бы я тоже принялся громогласно ликовать, это окончилось бы более суровым наказанием, чем для «зеленого», потому что я был политический, с красной нашивкой. Тушинского заставили сделать пятьдесят приседаний, тогда как мне, благодаря моей чрезвычайной дисциплинированности, удалось с видом внешне невозмутимым дождаться указаний, хотя тем временем я вполне мог про себя ликовать по поводу этой победы, как и всех дальнейших немецких побед, недаром же я всего лишь несколько лет назад был в магдебургском «Спартаке» активным бегуном на средние дистанции и даже одерживал победы на дистанции свыше трех тысяч метров.
Несмотря на запрещенные проявления радости -мы, как объяснил нам Эссер, были недостойны откровенно ликовать по поводу немецких побед, — во время Игр нельзя было полностью избежать спонтанного сближения между заключенными и охранниками, когда, например, лейпцигский студент Лутц Лонг при прыжках в длину разыгрывал волнующую дуэль с американским победителем в гонке на сто и двести метров — с чернокожим американцем Джесси Оуэном, которую Оуэн в конце концов и выиграл, установив олимпийский рекорд по прыжкам в длину. Он прыгнул на восемь метров шесть. А мировой рекорд на восемь метров тринадцать и без того уже ему принадлежал. И однако же все, кто оказался неподалеку от громкоговорителя, ликовали по поводу серебряной медали Лонга: два эсэсовских унтершарфюрера, которые считались свирепыми собаками, зеленый капо, который презирал нас, политических, и пакостил нам при всяком удобном случае, и я, среднего ранга функционер компартии, который пережил все это и многое сверх того, а сегодня вот пережевывает свои воспоминания плохо подогнанной челюстью.
Возможно, беглое пожатие руки многократно увенчанного негра, до которого снизошел Гитлер, и породило эту мимолетную общность. А потом снова была восстановлена дистанция. Хауптштурмфюрер подал рапорт. Дисциплинарные меры коснулись как арестантов, так и охранников. Незаконный громкоговоритель исчез, из-за чего мы и не могли больше следить за ходом Игр. Только из слухов я узнал о неудаче наших девушек, которые в эстафете на четыреста метров при передаче эстафетной палочки выронили ее. А уж когда Игры подошли к концу, для нас и вовсе не осталось никакой надежды.
Игры, которые мы затевали в школьном дворе по переменам, не кончались с очередным звонком, а продолжались за одноэтажным домиком для туалетов, именуемом нами «ссальня», из перемены в перемену. Мы воевали друг против друга. «Ссальня», примыкавшая к спортзалу, была у нас замок Альказар в Толедо. Правда, обыгрываемые события произошли уже примерно год назад, но в наших школьных мечтах фалангисты до сих пор героически защищали эти стены, а красные все время, хоть и без всякого результата, их атаковали. Впрочем, просчеты красных объяснялись и нашим отношением: никто не желал за них выступать, вот и я тоже не хотел. Все школьники, пылая смертельной храбростью, сражались на стороне генерала Франко. Потом, наконец, некоторые шестиклассники заставили нас тянуть жребий, и вместе с другими я вытянул красное, даже и не подозревая, какое значение возымеет для меня в будущем эта случайность, ибо черты будущего уже явно намечаются на школьных дворах.