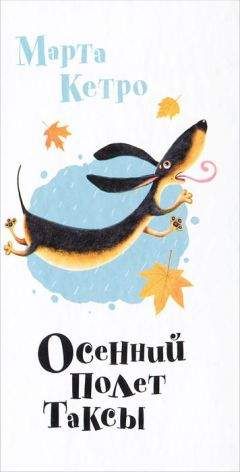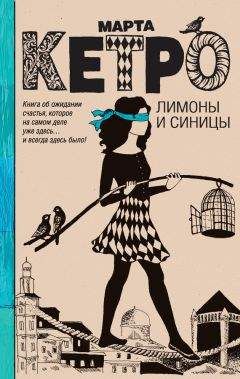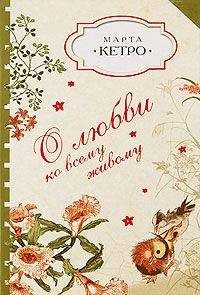Не особенно скандальная новость, впрочем, однажды это должно было произойти. Я становлюсь старше, и my lovers взрослеют. Им всё трудней сосредоточиваться и удерживать в поле зрения и меня, и свою машину, и работу, и семью, и собственное здоровье. Я бы на их месте тоже в первую очередь жертвовала фантомами и галлюцинациями.
И я уже давно умею согревать сердце чужим теплом, не генерируя своего. Это чертовски удобно – подстраиваться под температуру среды, разделять чью-то страсть, не обжигаясь, и охлаждаться, не вымораживая сердце.
Но тут произошла неожиданная смешная глупость. Видимо, есть ещё какой-то неписаный закон, и судя по нему, я слишком многое отвергала в последнее время. Потому что именно в этот несчастный раз я почувствовала… то, что почувствовала. Да ну, никак и не называть, не влюбилась же, в самом деле… Но в этот раз мне было чем согреть тебя, mi amor.
И, осознав оба факта – что он нет, а я таки да, – я сделала единственный возможный, с моей точки зрения, шаг: отправилась смотреть игуану.
Долго рассказывать, но есть такое место в Москве, где её можно погладить, если знаешь ходы. Я терпеливо переждала двадцать минут и чашку чая, и меня пустили к жёлто-зелёной ящерице, греющейся на батарее центрального отопления.
Она оказалась не скользкой, не пупырчатой, как я ожидала, а совсем сухой и очень горячей. Она была жарче, чем любое живое существо, которое мне доводилось трогать. И нагревалась иначе, чем неживой объект, полежавший у раскалённого камня, и не как кошка, у которой пылающее пузо запросто может сочетаться с прохладной спинкой.
Это был равномерный жар, одинаковый изнутри и снаружи, и тонкая кожа без капли жира, и общее впечатление концентрированного равнодушного тепла.
Отлично помню, что впитывала сквозь пальцы знание о том, как следует жить, чтобы было хорошо. Как нужно прижиматься плоскими стопами и животом к ласковым камням, как вытягивать шею, подставляя горлышко под прикосновения, как отворачиваться и закрывать глаза, когда перестают делать приятно. Думаю, игуана никогда не таращится в пустую тёмную ночь, ожидая звонка в дверь или письма.
Далее последовала цепочка событий, не имеющая особого значения для таких, как я. Некоторое количество перемещений в пространстве и немножко во времени, череда встряхиваний и беспокойств, неоднократная смена кондиционированного холода и естественной жары. Главное, что в итоге я оказалась там, где должна быть.
К середине жизни в каждом из нас накапливается необходимость в утешении. Как бы ни была добра судьба, усталость и потери неизбежно оставляют сырую туманную взвесь, которая со временем поднимается до горла, наказывая нас сердечной тяжестью и невыводимым кашлем. От этого, наверное, есть разное спасение, но мне известен один способ: нужно как-нибудь добраться до океана.
Нет, море не подойдёт. Средиземное море изгоняет лишь маленькую слабость и маленькую печаль, а горечь половины жизни заберёт только папа-океан. Сначала нужно войти в воду и поверить, что всякая жизнь зародилась здесь, в этой воде, и ни в какой другой, – нет, море не подойдёт. Потому что именно эта вода умеет принять и растворить в себе, как никакая другая, и так же легко умеет отпустить, никого не держа ни силой, ни хитростью.
Потом можно долго смотреть на густое сложное небо, на горизонт, на всё, о чём вам писали в путеводителях, а можно и не смотреть, закрыть глаза и с помощью кожи попробовать договориться с теплом и ветром, чтобы они высушили купальник и слёзы.
Вообще, есть множество вариантов того, что вы сделаете с океаном и что с вами сделает океан, но только один из них подходит для таких, как я.
Лечь на живот лицом к воде, раскинуть руки, вдавить в сероватый тёплый песок щёку, ладони, колени, всё тело. Позволить солнцу погладить спину и поцеловать затылок. И без ужаса чувствовать, как желтеет и зеленеет кожа, покрываясь кракелюрными трещинками, кисти усыхают до ящеричьих ладошек, глаза теряют ресницы и способность плакать. Я больше ни о ком не помню. Поднимаю узкую коричневатую голову и не мигая смотрю на океан.
Я всегда хотела иметь взрослого друга. Ах нет, я лгу, а это недопустимо – не вообще, но хотя бы не в первой строчке. До недавнего времени взрослые меня не интересовали, а друзья и вовсе были не нужны. Мне хотелось проводить свои дни с юными мужчинами… нет, раз уж я решила быть точной: проводить свои вечера с юными мужчинами, свои ночи – одной, свои утра – во сне, а дни – на прогулках. В последние годы, впрочем, появились какие-то женщины, чтобы с ними разговаривать. Вдруг для меня открылся мир женщин, прежде враждебный и неинтересный. До этого, когда нужно было уладить какие-то проблемы, я немедленно отыскивала глазами мужчин, которых можно обольстить, и они всё устроят. И они в самом деле находились и всё устраивали. А на недовольные тени за их спинами я даже не смотрела.
А потом я соскучилась и стала всё делать сама, и эти бледные тени восьмёрками вдруг выступили из-за треугольных силуэтов, обрели плоть и оказались вполне дружелюбными и в разы более надежными, чем мои былые союзники. И теперь я высматриваю женщину средних лет, с которой можно объясниться несколькими фразами и взглядами без всякого эротического подтекста, а точно по делу, и огонёк в её глазах будет означать только одно: она поняла задачу и жаждет решить её как можно лучше. Даже если задача – принести мне самый интересный десерт в этом кафе, не говоря уже о серьёзных и скучных поводах, по которым я прихожу в присутственные места.
В предыдущем абзаце я опять солгала, но разбить ритм немедленно оказалось выше моих сил, поэтому уточняю здесь: не «соскучилась», конечно. Меня просто чуть ли не впервые в жизни как-то ловко не полюбили, и разочарование моё было столь велико, что я отвернулась от них, от всех этих больших жестких мужчин, и попыталась спрятаться в нежном женском мире, утешиться в мягком, укрыться за широкими юбками, заснуть в тёмном шкафу, пока там, снаружи, меня потеряли, но, к сожалению, не ищут.
Конечно, даже в самой глубокой печали мне не приходило в голову отказываться от секса. Но я подумала, что если не могу спать, с кем хочу, то какая разница, с кем. То есть, по-прежнему с мужчинами – это технически удобнее, но уже не важно, с какими. Мне никто не нравился (точнее, единственный, кто нравился, был недоступен), и пришлось спать хотя бы с теми, кто не неприятен.
И я как-то смирилась со своим бедственным положением (потому что это бедствие, если задуматься) и заменяла любовников, следуя логике нетрудного пасьянса, а не собственным симпатиям и антипатиям. И однажды выбросила из расклада бубнового валета, заместив его крестовым королём. Была уже осень, и мелкие карты рыжей масти осыпались с деревьев, ложились под ноги, и мне показалось красивым, если следующий онёр будет темнее и старше предыдущего.
Наша первая постель стояла на остывшей поскрипывающей даче – я никогда не приводила этих одинаковых посторонних людей в дом, который пустовал с тех пор, как меня ловко не полюбили. Я твёрдо верю, что можно спать с кем попало, но нельзя пускать кого попало домой – так и мама говорила (но про секс она не упоминала, поэтому пусть). В их квартиры я иногда приходила, но у этого были какие-то обстоятельства, поэтому мы сговорились поехать для первого раза на дачу. Я всегда теперь сговариваюсь заранее, с тех самых пор, когда меня так ловко не полюбили, потому что это экономит время, а я не хочу тратить на этих людей больше, чем необходимо. Всего – времени, сил, беспокойства – всего по минимуму.
И значит, за окном большая луна высвечивала голые ветки, свет её падал сначала на меня, а потом на этого человека, который лежал на спине, а я пристроилась у него на плече и следила, как высыхает наш пот на моём теле, перестают дрожать колени, как вообще всё внутри выравнивается. И тут среди обычных физиологических ощущений я поймала чувство, как ловят за хвост ускользающую полёвку на осенней даче.
Вытащила на свет и опознала позабытое: этот человек мне нравится. Я так привыкла к отсутствию симпатии, к равнодушию, которое быстро сменяется раздражением, что совершенно забыла самую простую в мире вещь: как это – лежать в постели с тем, кто нравится.
И увидела я, что это хорошо, да уж. Приподняла голову и посмотрела, какой он, пожалуй, даже красивый в лунном свете. И умный. То есть при луне и голые почти все мужчины дураки – ну, кроме того, который не полюбил, – но я запомнила, что днём, в одежде, он казался вполне разумным. И мне немедленно захотелось болтать, это была вторая утраченная радость – я не болтаю с ними с тех пор, как меня тогда это самое, вы уже наверняка запомнили, что. Слишком много чести сообщать им свои мысли, щебетать, показывая розоватые складочки глупости, изъяны логики и сырую яму со страхами.