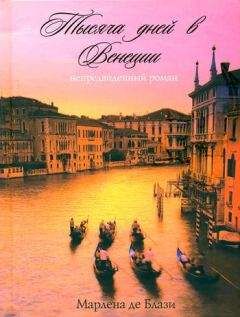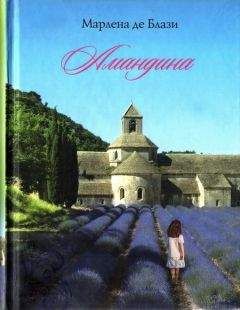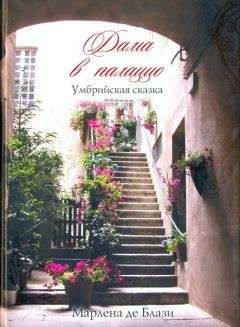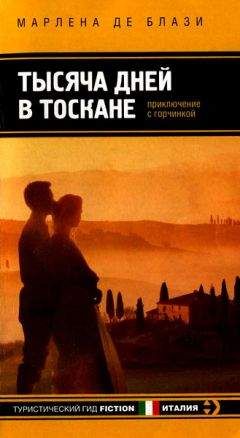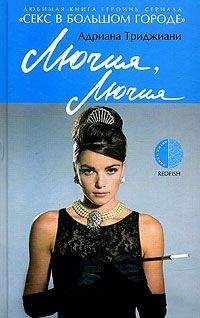Однажды утром, ожидая двух телячьих щек у мясника, я услышала, как женщина спрашивает:
— Puoi darmi un orecchio? Можете дать мне ухо?
Как мило, подумала я. Она готова обсуждать со своим мясником заказ. Возможно, она хотела получить обрезки для котов или добыть жирного каплуна на субботу. Себастьяно спустился с подмостков, исчез в святая святых холодильной камеры и вернулся, держа высоко в руке большую розовую оборку полупрозрачного мяса.
— Questo può andar bene, signora? Годится ли это, синьора?
Она одобрила, довольно поджав губы и полузакрыв глаза. Продано. Одно свиное ухо.
— Per insaporire i fagioli. Для запаха в горох, — ни к кому особенно не обращаясь, произнесла покупательница.
Возможно, меня так тянуло на любимый рынок из-за «яичной леди», которая всегда устраивалась за прилавком в зависимости от того, с какой стороны дул ветер, и я сообразила, что она защищает своих кур. Это было пленительное действо. Каждое утро с фермы на острове Сант-Эразмо она привозила пять или шесть взрослых кур в бумажном мешке из-под муки. Однажды на рынке она удобно устроила сумку с квохчущими курами под прилавком, наклонилась и запела на диалекте: «Dai, dai me putei, faseme dei bei vovi. Идите ко мне, мои маленькие детки, несите мне чудесные яйца». Каждый раз она открывала сумку, чтобы быстро проверить, все ли в порядке. На ее прилавке лежала пачка старых газет, аккуратно разорванных на квадраты, и тростниковая корзина с высокой ручкой в форме арки, в которую она бережно помещала каждое новое яйцо, напоминая мадонну Беллини. В утро, когда она приносила две, даже три сумки с курами, корзина почти всегда была полна. В другие дни у нее только несколько яиц. Покупателю она обертывала каждое яйцо газетой, закручивая оба конца так, что яйца выглядели как конфеты, похожие на детские призы на сельском празднике. Если кто-либо хотел купить шесть яиц, ему приходилось ждать, пока она оформит шесть призов. Когда старая тростниковая корзина пустела, а покупатель уходил, старушка просила потерпеть, подождать минутку, пока она нагнется к своей стае, одобрительно что-то шепча. Потом, вспотев, с триумфом акушерки она демонстрировала теплое, с кремовой скорлупой, сокровище.
Старуха по имени Лидия приносила на продажу фрукты. Всегда закутанная в несколько шалей и свитеров, вне зависимости от сезона, яблоки и горошек она продавала осенью, персики, сливы, абрикосы, вишни и инжир летом, а в промежутках торговала сухофруктами. Я любила приходить к ней в разгар адриатической зимы, когда из-за рваных туманов рынок казался маленьким обособленным государством. Лидия разводила огонь в старом угольном ведерке, чтобы согреть ноги и руки. Она закапывала яблоки в тлеющую золу. И вскоре из ведра начинал струиться упоительный запах; тогда она доставала длинную вилку и вытаскивала почерневшие, лопнувшие, мягкие, как пудинг, яблоки. Тщательно удалив зольную кожицу, она ела бледную, пахнущую вином мякоть маленькой деревянной, вырезанной вручную ложкой. Однажды я рассказала ей о синьоре, которую встретила на рынке в Пальманова во Фриули. Я объяснила, что та тоже пекла яблоки на нагревателе для ног, каждое до красивого рдяного оттенка, заворачивая их в листы савойской капусты. Когда яблоки становились мягкими, она удаляла обуглившийся лист, затем очищала фрукт от золы и ела, элегантно прикладываясь к фляжке с ромом. Лидия посчитала мой рассказ неудачной выдумкой. Только от фриуланки, сказала она, можно ожидать подобного. Простых нравов эстетка в бобровом жилете, она спрашивала, кому понравится запах подгоревшей капусты.
— I Friuliani sono praticamente slavi, sai. Знаете, жители Фриули практически все славяне, — доверительно сообщила мне она.
Я проводила часы в заботе о сохранении этого общества, потому что мне было ясно, что они останутся со мной на долгие годы. Они давали советы относительно еды, приготовления и терпения. Я узнала о луне и море, о войне, голоде и праздниках. Они пели свои песни и рассказывали собственные истории и, по прошествии времени, стали моей новой семьей, а я — их новым ребенком. Я чувствовала грубые прикосновения мозолистых влажных рук, кислое дыхание при поцелуях; смотрела в старые слезящиеся глаза, цвет которых зависел от цвета моря. Они находились на нижних ступенях венецианской лестницы, как прислуга и дворецкие, некоторые получили свою участь по наследству: они — потомки венецианок, никогда не носивших жемчуга в волосах; потомки венецианцев, у которых никогда не было атласных панталон и которые никогда не пили мелкими глотками китайский чай у «Флориана». Это другие венецианцы, они ежедневно пересекали лагуну от островов, где находились фермы, до рынка, останавливаясь, лишь чтобы поймать рыбы на ужин или преклонить колени в деревенской церкви. На пьяццу Сан-Марко им не по пути.
Когда я однажды подошла к Микеле, его голова склонилась над работой, он сплетал сухие стебли маленьких серебристых луковиц в плети. Не глядя на меня, он освободил руки и протянул ветку томатов, таких мелких, что она была похожа на плотный бутон розы. Я потянула один плод, открутила и отправила в рот, медленно жуя. Его особый вкус и запах напоминали двухфунтовый созревший на солнце томат, который поместили внутри этого крошечного рубинового фрукта. Не поднимая головы, Микеле спросил: «Hai capito? Ты поняла?» Короткая форма от: «Поняла ли ты, что это самые прекрасные в мире томаты?» Он был уверен, что я пойму.
А если рынок не дарил достаточно впечатлений, оставался ресторанчик «Кантина до Мори», расположенный точно в центре рынка. Я любила стоять внутри узкой, освещенной фонарем комнаты в ожидании забавного марша, не прерывавшегося столетиями. Бесконечная реприза; торговец рыбой в пластиковом фартуке, мясник в окровавленном рабочем халате, фермеры с салатом-латуком и торговцы фруктами, почти каждый человек с рынка — все были участниками пышной процессии: приблизительно с получасовым интервалом кто-нибудь из них входил в двери ресторана и деликатно пробирался в бар XV века, открытый для купцов, джентльменов и разбойников уже более половины тысячелетия. Потом несколькими изысканными движениями головой, глазами, пальцами каждый заказывал себе выпивку. Они быстро опрокидывали бокал «Просекко», «Рефоско» или «Белого Манзони» в один глоток, иногда в два, если в это время разговаривали, со стуком ставили опустевший стакан на стойку в свойственной каждому манере и уходили из боковых дверей работать дальше. Часто я оказывалась там единственной женщиной, кроме туристов, иногда, очень редко заходила хозяйка женского магазина, но все мы стремились быть благодарными гостями Роберто Бискотена, поклонника «Мунрейкера» и Джеймса Бонда в целом. Он здесь готовил, разливал и улыбался, как Джимми Стюарт, в течение сорока лет. Какие представления разыгрывались на подмостках его бара!
Японские туристы заказывали «Сашакайя» за тридцать тысяч лир стакан, немцы пили пиво, американцы читали вслух свои путеводители, англичане страдали от отсутствия стульев или столов, французам никогда не нравилось вино, а австралийцы всегда казались подвыпившими. И все они для местных были ничуть не важнее обоев.
К полудню рынок затихал, покупатели расходились по домам, а работники могли перекусить. У Роберто были готовы хлебцы с трюфелями, бутерброды с жареной ветчиной или копченой форелью, ломти остро пахнущего сыра, большие блюда артишоков, маленькие маринованные луковки, завернутые в анчоусы, и бочонки и бутылки местных и привозных вин.
В первую зиму, после того как была отмечена моя преданность чудесному заведению, Роберто снисходил до того, что брал у меня пальто, тряпочную сумку, набитую рыночными покупками, и уносил все на кухню, чтобы мне было удобнее. Я ела и пила по погоде и аппетиту и сейчас вспоминаю свои завтраки, как самые основательные в своей жизни. Постепенно я познакомилась с другими преданными поклонниками настолько, что начала принимать участие в розыгрышах и подшучивании, длившихся иногда по несколько дней — у кого-то якобы возникала лихорадка, у кого-то обострение желчного пузыря, необходим ремонт «Харлея», принадлежащего Роберто, есть новый рецепт тушения свежих бобов в камине, где найти в лесах Тревизо секрет приготовления долгохранящихся хлебцев и т. д. Поселившись в Италии, я осознала всю степень ехидства итальянских мужчин.
Я постепенно завоевывала право находиться в их кругу, свое мнение они меняли медленно. Но когда они начали сдаваться, формально троекратно целуя и крепко обнимая на прощание со словами «Ci vediamo domani. Увидимся завтра», я поняла, что в моем доме появилась еще одна комната.
На рынке говорили исключительно на диалекте, а я — по-итальянски, как умела, переходя на английский и своеобразное эсперанто, придуманное вместе с Фернандо. В «До Мори» мой социальный кружок состоял из мясников и торговцев рыбой, сыроваров и фермеров, выращивающих артишоки, местных ландшафтных художников, фотографовпортретистов, нескольких удалившихся от дел железнодорожников, двух сапожников и пары дюжин других людей, с кем я встречалась иногда каждый час, иногда раз в день. Мы вместе, потому что это место, где другие заметят и даже пожалеют, что кого-то из нас сейчас тут нет. Рынок и маленький ресторанчик — мое убежище в по-прежнему чужом городе.