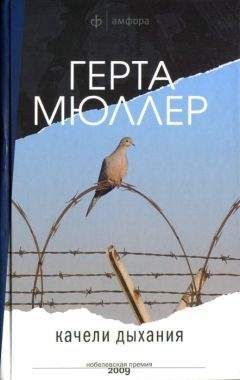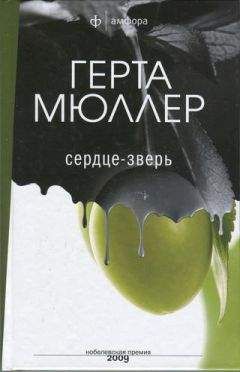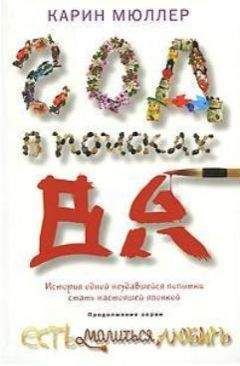УГОЛЬ «МАРКА-КА» поступает из шахты Рудная, что совсем рядом. Он не жирный, не сухой и не зернистый; не смешан ни с камнем, ни с песком. Он — всё разом и ничего особенного; словом, выглядит довольно убого. Конечно, в нем много антрацита, но у него нет своего лица. А антрацит мне никогда не был другом, пусть даже надоедливым. Он каверзный, его тяжело разгружать: лопата будто натыкается на кучу тряпок или сплетение корней.
Яма как вокзал: хоть и перекрыта, но это не спасает от сквозняков. Режущий ветер, кусачий мороз и короткие дни: электрический свет уже с полудня. Угольная пыль вперемешку со снежной крупой. Или: косой ветер с дождем прямо в лицо, и даже сквозь крышу падают крупные капли. Или: изнуряющий зной и долгие дни, полные солнца и угля, — пока не свалишься с ног. Выговорить название этого угля так же трудно, как его разгружать. На марка-ка запинаешься, такое не прошепчешь гладко, как имя газового угля: хазовой.
ГАЗОВЫЙ УГОЛЬ шустрый. Он прибывает из Ясиноватой. Начальник говорит чуть слышно: ХАЗОВОЙ. Нам слышится «хазеве»,[25] будто зайца ранили и ему больно. Оттого мне и нравится газовый уголь. Какой ни возьми вагон, найдешь там орехи, горох, зерна кукурузы. Все пять шиберов отходят легко — их можно открыть, как говорится, одним пальцем. Пятикратно шуршит хазовой — рассыпчатый, голубовато-серый; он сам по себе, без пустой породы. Глядя на него, думаешь: «Мягкое сердце у хазовоя». Когда он разгружен, решетка остается чистой, будто сквозь нее ничего не просыпалось. Мы стоим сверху, на решетке. Внизу, в брюхе ямы, должно быть, горные цепи и ущелья из угля. Есть там хранилище и для хазовоя.
В голове тоже есть хранилище. Летний воздух над ямой дрожит, как дома, и небо все из шелка, как дома. Но дома никто не знает, что я еще жив. Дома сейчас дед ест на веранде холодный огуречный салат и считает меня мертвым. А бабушка в огромной, словно комната, тени от сарая скликает кур, приговаривая: «Куд-куда, куд-куда»; сыплет им корм и тоже считает меня мертвым. А мать с отцом, наверно, в Венхе. Мать — в матросском костюме, который она сама себе сшила, — лежит в высокой траве на горной лужайке и думает, что я уже на небе. Я не могу потрясти ее за плечи и сказать: «Так ты меня любишь? Я еще жив». Отец сидит за столом в кухне и медленно начиняет патроны дробью, калеными свинцовыми шариками, — для охоты на зайцев ближайшей осенью. Зайцам будет больно. Хазовой.
Я охотился.
Кобелиан ушел, а я на пороге второй лагерной осени убил в степи лопатой земляную собачку. Она коротко, точно паровоз, свистнула. Как тянутся секунды, когда лоб над мордочкой наискосок расколот. Хазовой.
Я хотел ее съесть.
Но здесь лишь трава. На травинку ничего не насадишь, и лопатой не освежуешь. У меня сердце не лежало, и подходящего инструмента не было. Да и времени. Кобелиан вернулся, он видел. Я оставил ее лежать так же, как тянутся секунды, когда наискосок расколот лоб над мордочкой. Хазовой.
Отец, когда-то ты хотел научить меня свистеть в ответ, если кто-нибудь заблудился.
Желтый песок бывает всех оттенков: от пергидрольного до канареечного, и даже с розовым отливом. Песок ласковый. Жалко, когда его перемешивают с серым цементом.
Поздно вечером Кобелиан — а с ним Карли и я — снова сделал левую ходку: повез желтый песок. На этот раз он предварительно пояснил: «Поедем ко мне домой. Ничего я не строю, да ведь праздник скоро. Есть, наконец, культура какая-то».
Мы с Карли Хальменом поняли: желтый песок и есть культура. На лагерном дворе — после весенней и осенней уборки — дорожки посыпали для красоты желтым песком. Весной он украшал конец войны, а осенью — Октябрьскую революцию. Девятого мая наступила первая годовщина мира. Но этот мир нам снова ничего хорошего не принес, у нас шел второй лагерный год. Настал октябрь. Желтый песок, весеннее украшение, давно развеяли ветры засушливых дней и смыли потоки дождя. Теперь на лагерном дворе украшал осень свежий песок, смахивающий на кристаллический сахар. Он был красотой великого Октября — но знаком того, что нам можно домой, не был.
И ездили за ним не ради этой красоты. Мы привозили тонны песка, его пожирали стройки. Выемка, откуда брали песок, называлась КАРЬЕР. И этот карьер был неисчерпаем: длина самое меньшее триста метров, глубина — двадцать или тридцать, и повсюду лишь песок. Цирк из песка в гигантском песчаном котловане. Вся округа им пользовалась. Чем больше брали песка, тем выше вздымался амфитеатр и тем глубже он въедался в землю.
Если ты хитрый, то подгоняешь машину прямо под песчаный скат, чтобы не вверх забрасывать лопатой, а спокойно кидать на одном с кузовом уровне или, вообще не напрягаясь, сталкивать песок вниз.
Карьер сбивал с толку — как отпечаток большого пальца ноги. Сплошной песок, нигде ни комочка земли. Ровные горизонтальные напластования одно над другим: восковой белизны, телесного оттенка, блекло-желтые, ярко-желтые, охряные и розовые. И все — холодные и влажные. Под лопатой песок пушился, в воздухе, на лету, высыхал. Лопата будто сама себя подталкивала. Кузов наполнялся быстро. А разгружалась машина-самосвал без нас. Карли Хальмен и я ожидали здесь, в карьере, пока Кобелиан приедет снова.
Даже Кобелиан падал в песок и лежал во время погрузки. Даже глаза закрывал: спал, наверное. Когда машина была нагружена, мы концом лопаты легонько ударяли по его ботинку. Он вскакивал и шагал кукольной походкой к кабине. В песке оставался оттиск тела, словно Кобелиан тут присутствовал вдвойне: во-первых — лежа, в виде полой формы; во-вторых — стоя возле кабины в мокрых на заду брюках. Перед тем как залезть в машину, он дважды сплевывал в песок и, схватившись правой рукой за руль, левой тер себе глаза. И уезжал.
Машина отъехала, теперь Карли и я падаем в песок и вслушиваемся, как он струится, ластясь к телу, — и больше не делаем ничего. Вверху выгнулось небо. Между небом и песком тянется травяной рубец, он — нулевая отметка. Время замирает в тишине, вокруг переливаются микроскопические блестки. Распахиваются в голове дали, ты словно улизнул и теперь причастен не к здешнему принудительному труду, а к любому песку в любой части мира. Это — бегство лежа. Вращая глазами, я убегаю за горизонт, не опасаясь последствий. Песок снизу поддерживает мне спину, а мою голову небо тянет вверх, на себя. Вскоре небо слепнет, и тогда мои глаза стягивают его к себе, вниз; лобная пазуха и глазные яблоки, насквозь пропитавшись небом, стали недвижно-голубыми. Где я, прикрытый небом, — этого не знает никто. Даже тоска по дому не знает. Когда ты в песке, небо больше не придает ход времени, однако повернуть время вспять оно не может; как и желтый песок не может изменить наступивший мир — ни в третью, ни в четвертую годовщину. После четвертой годовщины мы всё еще оставались в лагере.
Карли Хальмен лежал в своей вмятине лицом вниз. Сквозь короткие волосы проблескивали, будто навощенные, шрамы — зажившие следы хлебной кражи. Светился в ушной раковине красный шелк прожилок. Я вспоминал мои последние рандеву в Ольховом парке и в Банях Нептуна — с тем женатым румыном, что был вдвое старше меня. Долго ли он меня ждал, когда я в первый раз не пришел в условленное время? И потом — пока не понял, что следующего раза не будет, что я больше никогда не приду? А Кобелиан вернется самое раннее через полчаса.
И снова у меня поднялась рука, мне захотелось погладить Карли Хальмена. К счастью, он сам помог мне побороть искушение: поднял голову, рот был забит песком. Карли ел песок: во рту у него хрустело, потом он сглотнул. Я оцепенел, а он набил рот вторично. Пока он жевал, от щек отлетали песчинки. Они мелкой сеткой отпечатались на щеках, на лбу, на носу. А слезы, стекавшие по обеим щекам, были кофейного цвета шнурами.
— Ребенком, — заговорил он, — я надкусывал персики и бросал их на землю надкусом вниз. Потом поднимал и ел, где прилип песок, и опять бросал. Пока не оставалась только косточка. Отец водил меня к врачу, потому что я ненормальный: мне нравится кушать песок. Сейчас песка у меня достаточно, но я уже не помню, как выглядит персик.
Я сказал:
— Он желтый, с пушком, а вокруг косточки — красно-шелковистый.
Мы услышали, что подъезжает машина, и поднялись.
Карли Хальмен взялся за лопату. Когда он набирал песок, слезы катились прямиком вниз. Когда же закидывал песок в кузов, слеза слева затекала ему в рот, а справа — в ухо.
Карли и я вновь поехали на «ланчии» через степь. Земляные собачки разбегались от нас. Повсюду — следы колес, смятая трава, лакированная красно-ржавой засохшей кровью. Рои мух мельтешат на вдавленных в землю шкурках и вылезших наружу внутренностях. Некоторые кишки, скрученные наподобие перламутровых бус, еще отсвечивали свежим голубовато-белым блеском. Иные, иссиня-красные, наполовину сгнили или ссохлись, как засушенные цветы. А справа и слева от автомобильной колеи лежали отброшенные земляные собачки, будто колеса им не причинили вреда и они просто спят. Карли Хальмен сказал: «Мертвые они похожи на утюги». Вот уж на что они никак не похожи. Что это взбрело ему в голову, я даже слово «утюг» давно позабыл.