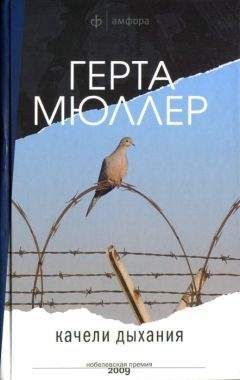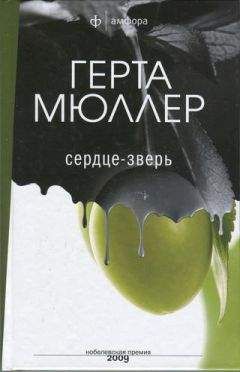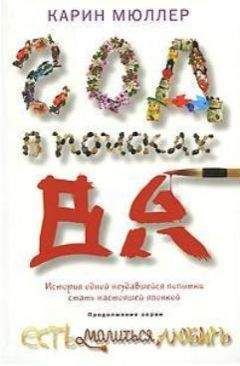Случались дни, когда у земляных собачек почти исчезал страх перед колесами. Должно быть, в ветре тогда появлялась та же засасывающая сила, что и в автомобильном шуме, и это сбивало с толку их инстинкты. Когда колеса приближались, они убегали — но, оглушенные, бежали не прочь от машины, а прямо навстречу смерти. Понятно, что у Кобелиана и в мыслях не было свернуть в сторону, чтобы не раздавить земляную собачку. Но он ни одной не переехал — ни одна не пищала у него под колесами. Правда, при стуке мотора «ланчии» мы бы все равно не расслышали этот тончайший свист.
Однако я знаю, как свистит, угодив под машину, земляная собачка; при каждой поездке я слышу этот свист в своей голове. Он — короткий и рвущий сердце; три слога следуют один за другим: хазовой. Точно такой же — когда земляную собачку убивают лопатой, потому что и убивают так же быстро. Я знаю, как в месте убийства пугается земля, как расходится кругами вибрация, будто от брошенного в воду камня. Знаю, как горят потом губы: ты их прикусываешь, когда изо всех сил наносишь удар.
С тех пор как моя земляная собачка осталась лежать в степи, я внушаю себе, что их нельзя употреблять в пищу, пусть даже нет к ним, живым, ни капли сострадания, а к мертвым — отвращения. Будь я еще способен на сострадание и отвращение, они обратились бы не на собачек, а на меня самого. И вышло бы одно отвращение — не к собачке, а к собственной моей нерешительности, возникшей из сострадания.
Нет, если в следующий раз у Карли и у меня хватит времени, если мы соскочим с машины, зная, что Кобелиан не вернется, пока не набьет три-четыре мешка травой для своих коз… Если у нас будет столько времени… Думаю, Карли Хальмен все равно не захочет — из-за моего присутствия. Мне придется терять время, уговаривая его, и вряд ли мы успеем, даже если времени в следующий раз будет у нас довольно. Нужно сказать Карли, что перед земляной собачкой ему стыдиться нечего, перед степью — тоже. Но, думаю, он будет стыдиться перед самим собой — больше, во всяком случае, чем стыжусь перед собой я. И будет больше, чем я, стесняться Кобелиана. А вот спрошу-ка я его, с какой стати мы должны равняться на Кобелиана: «Будь Кобелиан так же далеко от дома, как мы, он тоже ел бы земляных собачек».
Бывали дни, когда со дня на день в степи попадалась лишь смятая лакированно-ржавая трава. Со дня на день истаивали облака. Оставались только тощие журавли в небе и одичалые навозные мухи на земле. Но ни одной мертвой земляной собачки.
«Куда делись собачки? — спросил бы я Карли. — Ты не задумывался, почему многие русские ходят пешком по степи? И часто наклоняются. И ненадолго присаживаются. Думаешь, что они отдыхают, потому что устали, все устали? Как бы не так — у них та же зарубка в мозгу, что и у нас, то же пустое брюхо, что и у нас. У русских свои пути и больше, чем у нас, времени; здесь, в степи, они у себя дома. Кобелиан не будет против. Подумай: зачем рядом с ножным тормозом у него в кабине лопата с коротким черенком? Траву ведь он рвет руками. Когда нас нет, он вылезает из кабины не только ради травы». Так бы я сказал Карли, и лгать бы мне не пришлось, правды-то я не знаю. Да и знай я ее, это была бы одна правда, а противоположная ей — другая. «Даже ты и я в присутствии Кобелиана становимся другими — не такими, как без него, — продолжил бы я. — Даже я, когда тебя нет, — другой. Ты вот вообразил себе, что никогда не бываешь другим. Но когда случилась хлебная кража, ты не был таким, как сейчас, и я таким, как сейчас, не был, и все другие — тоже». Но этого я бы никогда ему не сказал, потому что это был бы упрек.
Шкурка, когда горит, воняет. «Я сам обдеру, а ты разведи скорей огонь», — сказал бы я, если бы Карли в конце концов согласился.
Карли Хальмен и я снова и снова ездили с Кобелианом через степь. Неделю спустя мы стояли в кузове «ланчии». Воздух был белесым, трава — оранжевой, солнце разворачивало степь к поздней осени. Ночной иней засахарил раздавленных земляных собачек. Мы проехали мимо какого-то старика. Стоя в клубах пыли, он помахал нам лопатой. У нее был короткий черенок. С плеча у старика свисал тяжелый мешок, наполненный лишь на четверть. Карли сказал: «Не за травой он пришел. Если в следующий раз нам хватит времени и мы соскочим с машины… Кобелиан не будет против, но ты же у нас чувствительный, небось не захочешь».
Не зря говорят, что голод слеп. Карли Хальмен и я друг о друге знали немного. Потому что слишком много бывали вместе. И Кобелиан о нас ничего не знал, а мы — о нем. Мы все были тогда другими — не такими, какие мы есть.
Незадолго до Рождества я сидел в кабине у Кобелиана. Уже стемнело, но мы должны были сделать ходку налево, к брату Кобелиана. В машину загрузили уголь.
Городок начался с булыжной мостовой и руин вокзала. Мы свернули на окраинную улицу, ухабистую и кривую. На небе горела еще светлая полоса, за чугунной оградой стояли ели; они — черно-ночные, стройные и остроконечные — возвышались над всем вокруг и были отчетливо видны. Через три дома Кобелиан остановил машину.
Когда я начал разгрузку, он небрежно махнул рукой, что должно было означать: «Не спеши, время есть», — и зашел в дом. Дом, наверное, был белый, но в свете фар казался желтым.
Бросив пальто на крышу кабины, я взмахивал лопатой как можно медленней. Однако лопата была моей госпожой, она задавала ритм, а я волей-неволей подчинялся. И она мною гордилась. Работа лопатой — уже не один год — была для меня единственным занятием, еще заключавшим в себе остатки гордости. Вскоре кузов опустел, а Кобелиан все не выходил из дома брата.
Порой план действий созревает медленно, но есть электризующий миг принятого решения, который подгоняет тебя своей внезапностью прежде, чем ты доверил себе это решение. Пальто я уже надел. И предупредил себя, что за воровство сажают в карцер, но ноги сами понесли меня к елям. Решетчатые ворота были не заперты. По всей вероятности, за ними начинался запущенный парк или кладбище. Я обломал все нижние ветки, потом стащил с себя пальто и завернул их в него. Ворота я оставил открытыми и теперь поспешил обратно, к дому Кобелианова брата. Белея в непроглядной тьме, дом напряженно ждал. Фары больше не горели, Кобелиан уже и борт поднял. Мой сверток, когда я забрасывал его в кузов, терпко пах смолой и едко — страхом. Кобелиан сидел в кабине, от него разило водкой. Это я сегодня так говорю, а тогда я сказал себе: «От него попахивает водкой, но он не пьяница — водку пьет только под жирную еду». Я еще подумал, что он мог бы и обо мне вспомнить.
Когда возвращаешься в такое позднее время, никогда не знаешь, как все пройдет у ворот лагеря. Три сторожевые собаки залаяли. Охранник прикладом выбил сверток у меня из рук. Ветки рассыпались по земле, там же оказалось и мое городское пальто с бархатным воротником. Собаки обнюхали ветки, и лишь потом их заинтересовало пальто. Самый большой пес — должно быть, вожак — потащил в зубах пальто, будто волочил труп, через весь двор на плац. Я побежал следом, пальто удалось спасти — но только потому, что пес его бросил.
Через два дня хлебовоз тянул мимо меня свою тележку. Сверху на белой простыне лежала новая метла из моих еловых веток, ручкой служил черенок от лопаты. Три дня оставалось до Рождества — само это слово вносит в комнату зеленую елку. А у меня в чемодане нашлись только рваные зеленые перчатки моей тетки Финн. Адвокат Пауль Гаст уже две недели работал механиком на заводе. Ему я поручил достать проволоку. Он принес куски длиной в ладонь, они были соединены с одного конца, образуя подобие малярной кисти. Я соорудил проволочное деревце, распустил перчатки и обмотал проволоку зелеными шерстяными нитками — так же густо, как растут иголки на ветках.
Рождественская елка уместилась на столике, под часами с кукушкой. Адвокат Пауль Гаст повесил на нее два коричневых хлебных шарика. Как у него нашелся лишний хлеб, чтоб украсить елку, я себя в то время не спрашивал: знал наверняка, что шарики он завтра съест; а еще потому не спрашивал, что Гаст, пока их лепил, рассказывал про Рождество там, дома:
«У нас в гимназии, в Обервишау, весь предрождественский месяц по утрам, перед первым уроком, зажигали свечи в венке.[26] Венок висел над кафедрой. А голова у нашего учителя географии — звали его Леонида — была совсем лысой. Свечи горели, и мы, как обычно, пели: "Елка, милая елка, как зелены твои игол…" Но, едва начав песню, умолкли, потому что Леонида вдруг вскрикнул: АЙ! Ему на лысину капнул розовый воск. Он заорал, чтобы мы немедленно задули свечи, и откинулся на спинку стула. Затем из кармана пиджака вынул перочинный ножик в форме серебристой рыбки. «Подойди-ка», — подозвал он меня и, открыв нож, наклонил голову. Мне пришлось соскребать ножом воск с лысины. Голову ему я не поцарапал. И когда снова сел за парту, Леонида подошел ко мне — только для того, чтобы отвесить затрещину. Я хотел было вытереть слезы, но он заорал: "Руки за спину!"»