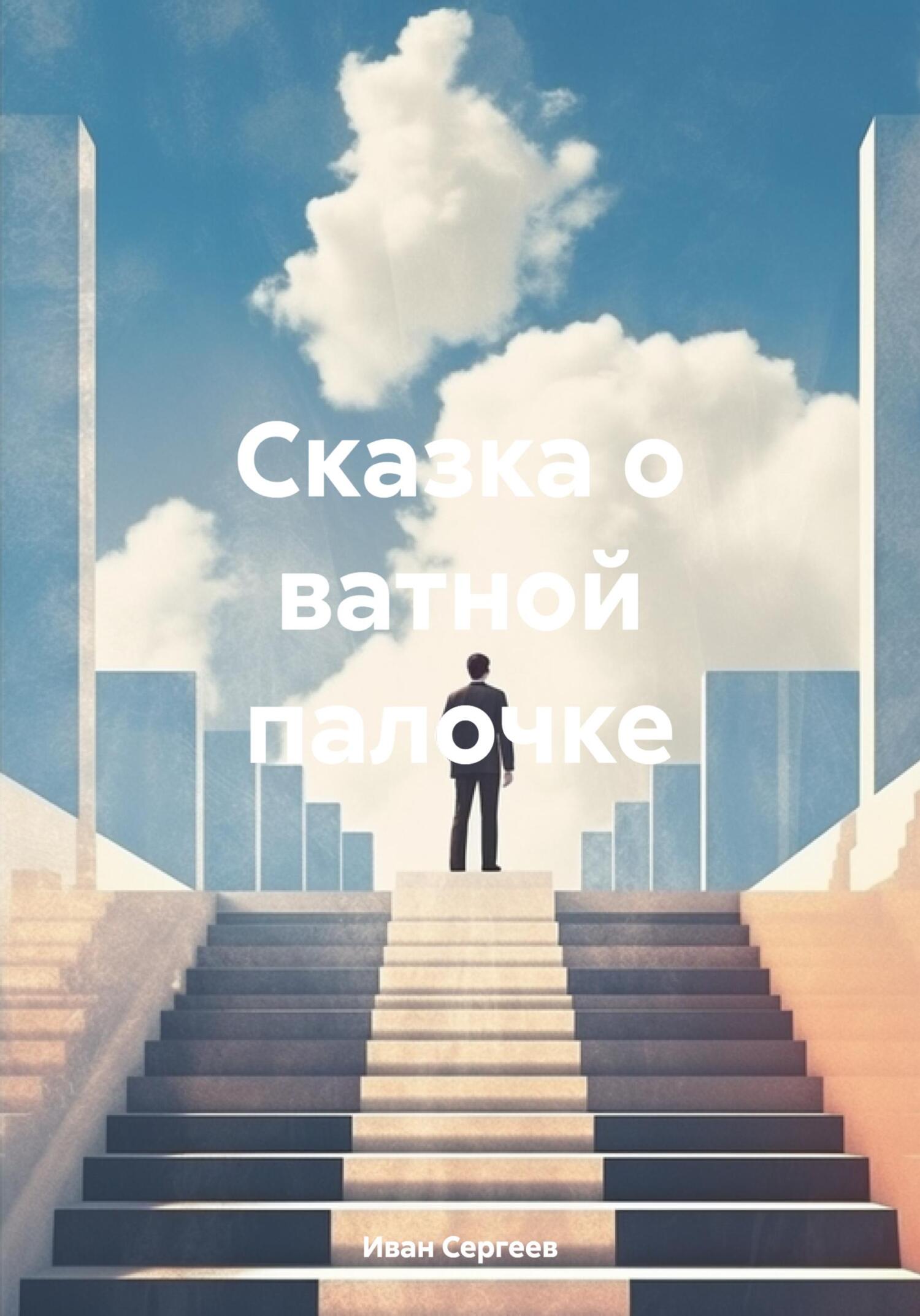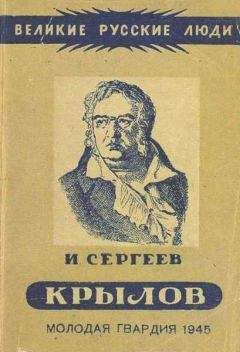Когда я пришел на картофельное поле, студенты уже работали. Я плюхнулся за пустыми ящиками и надолго забылся сладким сном. Мне снились горы картофеля. Сиреневого, фиолетового и белого. Их вершины напоминали пятиконечные звезды, а звезды эти с высоты птичьего полета напоминали американский флаг, который диктовал всему миру свои условия. И нигде не было видно родного красного флага.
Проснулся я внезапно, ощутив вечернюю прохладу. Пронзительный ветер, покачав штабеля пустых ящиков, закружился волчком. Опустевшее поле, из которого вынули внутренности, подарило людям столько изобилия, что напоминало собой великую русскую женщину, дремавшую после кесарева сечения. И, однако, освобожденная мать-земля дышала глубоко и свободно. Она дарила тем, кто на ней работал, здоровье и долголетие. Силу и свежесть этого легкого дыхания я чувствовал на своем лице. Дыхание земли дало мне понимание, что только освобожденный труд нес избавление от мучительных страданий, бедности и пороков, из которых вечное пьянство было наистрашнейшим.
Подкинув сломанный ящик, чудом убереженный от сожжения, я сел на него, когда ящик стал похож на покладистого пони. Недалеко от меня стояли аккуратно уложенные штабелями ящики, наполненные отборным картофелем. Содержание их указывало на сизифов труд, потому что бессмысленно было собирать эту мировую картошку и отправлять ее на хранение в город, где она подвергалась значительному гниению, чтобы затем попасть к нам на стол, почти непригодной в пищу.
Причудливые картофелины изображали собой довольно смелые сюжеты из провинциальной жизни. И, глядя на них, мне показалось странным, что обо мне ни разу не вспомнили за целый день. Не отвели душу, обругав меня последними словами; не ткнули в мою сторону указательным пальцем, когда я безмятежно спал за ящиками мертвым сном; не начали подбивать клинья к Свете после нашего свидания с ней на зеленой лужайке, а что, собственно, было вчера, я так толком и не узнал.
Я все ждал ответа на свои вопросы, обращенные скорее к убранному картофельному полю, чем к Свете или Сергею Писареву. Бескрайнее поле, по моему глубокому убеждению, впитало в себя все вопросы русской земли, становясь напряженным, упругим и зрелым. Долго глядел я на поле, но взаимопонимания между собой, убранным картофелем и сломанным ящиком, похожим на пони, – не находил. И тут ко мне подошла Света, румяная, как яблоко наливное. Должно быть, она испытывала сильное внутреннее волнение, которое было написано у нее на лице. Она спросила, чему я так радуюсь. Но я не радовался вовсе. И, как можно радоваться, после того, как из своего верного помощника сделал отбивную.
– Это не радость, Света. Так выглядит человеческое горе. А почему я улыбаюсь? Да, потому что я приучил себя улыбаться, когда на сердце хуже некуда, и кошки бездомные скребут.
– Тогда расскажи, что с тобой приключилось.
– Вначале понять надо. А я не могу понять, что между нами произошло. Поцелуй твой запомнил на всю жизнь.
– Ну, хоть поцелуй запомнил и то хорошо!
– Извини, Светочка, но нам пора заканчивать беседу, которая неизвестно, куда может завести. Мне отпущено всего два дня для решения очень непростой задачи, и они уже на исходе. Я бы поговорил с тобой и, поверь, нашел бы ласковые слова.
– Вот и поговорил бы со мной. А то махнул в Питер к своей бывшей женушке.
– Ах, Света, зря ты так! Понимаешь, для любви не осталось времени, даже к бывшей жене, – с горечью заключил я, зачем-то отталкивая от себя девушку, вместо того, чтобы обнять и прижать к своей горячей груди, на зависть Кондакову, бригадиру и трактористу, единому в трех лицах.
– Ты бы хотел снова со мной встретиться? – просто сказала Света.
– Неужели, так сразу?
– Я необходима тебе сейчас, даже больше, чем стакан водки.
– Может быть, ты и права, – согласился я с ней.
– Ты ведь за этим в Питер ездил? – стала допытываться девушка.
– Может быть! – уклончиво ответил я.
– Не думай о жене своей бывшей. Она забыла тебя. Теперь у нее новая жизнь, и скоро она полнеть начнет.
– Что ты этим хочешь сказать?
– То, что она беременная.
– От кого?
– Поверь мне – ребенок не от тебя.
– Ладно, Света, давай забудем о Верочке Клюге. Мне не верится, что ты сказала правду.
Но Света лишь улыбнулась в ответ. Она была гораздо моложе Верочки и очень хороша собой. Поэтому я обнял ее и нежно поцеловал. Меня охватила дикая страсть к забавной девчонке. В Сырковицах в каждом доме был сеновал. Забрались мы наверх по деревянной ветхой лестнице кирпичного полуразвалившегося дома. А наверху я просто опьянел от ароматов сухого клевера, душицы и зверобоя. Света, не стесняясь меня, разделась и встала передо мной в восхитительной позе, словно жрица любви. Во мне давно уже пробудилась мужская сила. Я вошел в нее, и мне было так же сладко, как когда-то с моей бывшей женой. А может, еще слаще. Красива, хороша и женственна была Света. А шея была у нее лебединая.
О Сергее я думал с надеждой. С его помощью я моделировал все лучше и лучше объемные фразы, хотя общая картина в стройную законченную мозаику не складывалась. К известным двум точкам, расположенным на корне и кончике языка, мне не удалось добавить ни одной новой точки. Поэтому было очень опасно строить объемные колебательные системы, выходящие за рамки двух точек.
В душе я надеялся, что Писарев после прошедшей бессонной ночи не выйдет на связь. Но Сергей был настырен. И, хотя он не смог дойти до картофельного поля, это ни о чем не говорило.
Я приблизился к бараку, когда все созвездия наконец-то вспыхнули в вышине, не оставив молодому ершистому месяцу никаких шансов в состязании с ними. Я был возбужден и бледен. Любовное свидание со Светой настроило меня на победу. Я начал замечать восхитительные мелочи, на которые раньше не обращал внимания. Отчего мне казалось, что звезды то прыгали на серебряные рожки месяца, то съезжали с них, как с горки. Но звезд было много на небе, ярких и дерзких, чтобы отполировать своим сиянием ненасытные рога месяца. Неудивительно, что месяц не выдержал их волшебного блеска и спасовал. И когда Млечный путь засиял особенно ярко, спрятался за набежавшую тучу и так долго не показывался, что ласковые звезды о нем забыли. Секс и оргазм управляли миром, особенно творческим.
Восхитительная ночь не могла ничего изменить в познании Матрицы, несмотря на жертвы, на которые пошли ради меня Света и Сергей Писарев. Вдохнув глубоко свежий деревенский воздух, я вошел в барак, где увидел Кондакова, который при тусклом свете настольной лампы пытался растормошить Сергея.
– Что с ним? – с тревогой спросил я.
– Мне никак не разбудить его, – ответил прораб, – утром сослался на болезнь, но температуру мерить отказался. Если завтра ему не станет легче, придется отправить его в город.
– Может, у него грипп? При гриппе не такое бывает, – предположил я, чтобы заступиться за Сергея. Кондаков недоверчиво посмотрел на меня и вышел на улицу. А в четырех стенах барака еще долго витала не высказанная им досада. Но она совершенно не трогала меня, потому что я не сомневался более в успехе.
Погасив свет, я прилег в кромешной темноте на кровать. Я лежал с открытыми глазами и мысленно готовился к мозговому штурму. В комнату заглянул ненадолго месяц. Он светил, казалось, мне одному.
Я любовался месяцем, радуясь затянувшемуся безмолвию. И в этой харизматической тишине услышал, как мышь скребется в дальнем углу, как вращается на крыше из-за сильного ветра флюгер и как вертится и не может заснуть за стеной бригадир. А потом пробудилось на свет живое искрометное слово. И вместе со словом появился светящийся силуэт Сергея.
И тогда я, восторгаясь мужеством Писарева, снова прозрел, остановившись на числе «семь». Я вдруг понял совершенно отчетливо, что число точек Матрицы не должно быть более восьми. Это исходило из того, что число независимых цветов спектра света равнялось семи плюс еще один цвет – пурпурный. Об этом утверждал еще Исаак Ньютон. А затем подтвердили и другие физики. Наверно, неспроста основных музыкальных символов было семь. Отсюда следовало почти гениальное предвиденье, что число точек Матрицы, которые я пытался найти с помощью мозгового штурма, могло быть созвучно им. И такая безумно свежая идея пришла ко мне в глубокой, почти жуткой тишине.