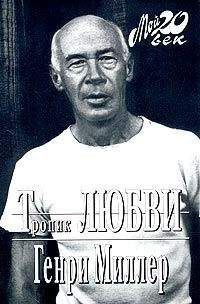В Греции у вас появляется убеждение, что гениальность — это норма, а бездарность — исключение. Ни в какой иной стране не было столько гениальных людей, пропорционально числу граждан, сколько в Греции. Только в одном веке эта небольшая нация дала миру почти пятьсот гениев. Ее искусство, которое зародилось пятьдесят столетий назад, вечно и несравненно. Ее пейзаж по-прежнему самый живописный, самый дивный, какой земля может предложить человеку. Обитатели этого малого мира жили в гармонии с окружающей природой, населяя ее богами, которые были реальны и принимали непосредственное участие в их жизни. Греческий космос — самая красноречивая иллюстрация единства мысли и действия. Он продолжает существовать даже сегодня, правда отдельными своими элементами. Образ Греции, хотя и поблекший, остается архетипом чуда, созданного человеческим духом. Целый народ, как свидетельствуют реликвии его достижений, поднялся до высот, ни прежде, ни позже не достигавшихся. Это было чудом. Это поныне чудо. Задача гения, а человек в высшей степени гениален, — длить жизнь чуда, всегда жить посреди чуда, делать так, чтобы чудо становилось все более и более чудесным, не присягать ничему иному, как только жизни чудесной, мыслям чудесным, смерти чудесной. Степень разрушения не имеет значения, если хотя бы единственное семечко чудесного будет сохранено и взращено. В Эпидавре с головой окунаешься в неосязаемый вал отгремевшей чудесной бури человеческого духа. Тебя обдает брызгами мощной волны, разбившейся наконец о дальний берег. Ныне наше внимание сосредоточено на физической неистребимости Вселенной; мы обязаны сосредоточиться мыслью на сем вещном факте, потому что никогда еще человек не опустошал и не разорял ее до такой степени. По этой причине мы склонны забывать, что царство духа тоже неистребимо, что в этом царстве ни одно достижение не исчезает бесследно. Когда стоишь в Эпидавре, знаешь: это действительно так. Мир может не выдержать и расколоться под грузом озлобленности и враждебности, но здесь, навстречу какой неистовой буре ни погнали бы нас дьявольские наши страсти, здесь находится область мира и спокойствия, чистого процеженного наследия прошлого, не совсем исчезнувшего.
Если Эпидавр зачаровывает миром и тишиной, то Микены, которые с виду так же тихи и спокойны, пробуждают совсем иные мысли и чувства. За день до этого, в Тиринфе, меня познакомили с миром циклопов. Мы вошли в развалины некогда неприступной цитадели через похожий на утробу проем, возведенный если не сверхлюдьми, то уж определенно гигантами. Стены утробы были гладкими, словно алебастровыми; их отполировали своими боками овцы, поскольку в эпоху мрака, окутавшего этот край, пастухи укрывали здесь свои отары. Тиринф доисторичен по своей природе. От когда-то огромного первоначального поселения ныне осталось несколько фрагментов громадных крепостных валов. Не знаю почему, но мне увиделось в них что-то общее, хотя бы по духу, с пещерами на берегах Дордони. Что-то подсказывает, что эта местность сильно изменилась с тех пор. Предположительно Тиринф был основан в минойский период на расстоянии выстрела от Крита; если это так, дух его претерпел столь же глубокие изменения, как сама земля. Тиринф не больше похож на Кносс, например, чем Нью-Йорк на Рим или Париж. Тиринф повторяет, воспроизводит его совершенно так же, как Америка воспроизводит Европу, самые дегенеративные ее черты. Крит минойской эпохи развивает культуру, основанную на мирной жизни, — Тиринф отдает жестокостью, варварством, подозрительностью, изоляцией. Он как Герберт Уэллс, готовящийся писать драму из доисторических времен, о тысячелетней войне между одноглазыми великанами и неуклюжими динозаврами.
Микены, которые на шкале времени следуют за Тиринфом, являют собой совершенно иную картину. Нынешняя их неподвижность напоминает неподвижность обессилевшего жестокого и умного чудовища, истекшего кровью. Микены, и вновь я говорю лишь о своих впечатлениях и ощущениях, похоже, пережили долгий цикл расцвета и упадка. Они как бы стоят вне времени, во всех исторических смыслах. Каким-то мистическим образом та же эгейская раса, которая посеяла семена культуры на пространстве от Крита до Тиринфа, здесь достигла невиданных высот, произвела на свет стремительное племя героев, титанов и полубогов, а затем, словно небывалое и божественное цветение обессилило ее и ослепило своим блеском, не смогла сопротивляться рецидиву застарелой язвенной болезни и корчилась и истекала кровью несколько столетий, пока наконец не стала мифом для своих преемников. Когда-то по земле Микен ходили боги, в этом не может быть никаких сомнений. И потомки тех самых богов произвели в Микенах тип человека — художника до мозга костей, но в то же время раздираемого чудовищными страстями. Архитектура была циклопической, орнамент — непревзойденным по изысканности и изяществу. Золото использовали не скупясь, ибо его было в изобилии. Все здесь являет собой противоречие. Это одно из средоточий человеческого духа, место приверженности прошлому, но так же и полного разрыва с ним. Его лик непроницаем: он зловещ и прекрасен, он чарует и отталкивает. Можно только строить догадки о том, что здесь произошло. Историки и археологи соткали просвечивающую и непрочную пелену, чтобы укрыть волшебство. Они складывают разрозненные фрагменты, ища связь между ними в соответствии со своей бескрылой логикой. Никто еще не проник в тайну этих древних мест. Она не поддается немощному нашему интеллекту. Мы должны ожидать возвращения богов, возрождения способностей, ныне еще не разбуженных.
* * *
В воскресенье утром мы с Кацимбалисом покинули Микены и отправились в Навплион. Было едва восемь, когда мы сошли на маленькой станции, носившей это легендарное имя. В Аргосе я почувствовал волшебство этого мира всем нутром. Вещи давно забытые всплыли с пугающей отчетливостью. Я не был уверен, то ли вспоминаю о чем-то, читанном еще в школе, то ли пью от общей памяти народа. То, что эти места все еще существуют, все еще называются своими древними именами, казалось неправдоподобным. Это было сродни воскрешению, и день, который мы выбрали для путешествия, скорей был днем Пасхи, чем Днем благодарения. От станции до руин было несколько километров, которые предстояло пройти пешком. Как в Эпидавре, вокруг царила возвышенная тишина. Мы неторопливо шагали к кольцу холмов, круглившихся над залитой светом Аргосской равниной. В синеве, не нарушаемой ни единым облачком, кружило несколько птиц. Неожиданно нам повстречался маленький мальчик, плакавший навзрыд. Он стоял в поле у дороги. Его рыдания никак не вязались с тишиной и безмятежностью, разлитыми вокруг; словно дух принес его из иного мира и поставил на том зеленом поле. О чем мог плакать маленький мальчик в такой час посреди такого дивного мира? Кацимбалис подошел и заговорил с ним. Мальчуган плакал оттого, что сестренка украла у него деньги. Сколько было денег? Три драхмы. Деньги, деньги... Даже здесь существовала такая вещь, как деньги. Никогда еще слово «деньги» не казалось мне столь нелепым. Как можно думать о такой вещи в этом мире ужаса, красоты и волшебства? Если бы он потерял осла или попугая, я бы еще мог понять. Но три драхмы... я даже представить не мог такой ничтожной суммы, как три драхмы. Не мог поверить, что он плачет. Это была галлюцинация. Пусть стоит там и плачет — дух снова явится и унесет его; он не от мира сего, он аномалия.
Миновав небольшой постоялый двор, где хозяевами Агамемнон с женой и который смотрит на поле цвета ирландской зелени, тут же соображаешь, что земля засеяна телами, и орудиями, и оружием легендарных фигур. Кацимбалис еще не успел рта раскрыть, а я уже знал, что они лежат повсюду вокруг нас — земля об этом говорила. Когда приближаешься к месту, где происходили ужасные события, ноги сами несут вперед. Повсюду разбросаны курганы, могильные холмы и холмики, и под ними, даже не очень глубоко, лежат воины и герои, мифические новаторы, которые без помощи механизмов возвели самые непреодолимые укрепления. Сон мертвецов так глубок, что дремота охватывает и землю, и всех, кто идет по ней; даже у огромных падальщиков, кружащих в небе, вид осовелый и загипнотизированный. По мере того как медленно поднимаешься по отлогому склону, кровь в жилах густеет, сердце бьется все реже и перед мысленным взором неотвратимо встает бесконечная череда коварных убийств. Существуют два различных мира — солнечный героический и мрачный мир кинжала и яда. Микены, подобно Эпидавру, купаются в свете. Но Эпидавр весь открыт, распахнут, навеки посвящен духу. Микены уходят в себя, смыкаются, как только что обрезанная пуповина, прячут свою славу в недрах земли, где ее вожделенно пожирают летучие мыши и ящерицы. Эпидавр — это чаша, из которой пьешь чистый дух: в ней небесная синева, и звезды, и крылатые создания, которые кружат, распевая песни. Микены, когда делаешь последний поворот, неожиданно подбираются, угрожающе припадая к земле, зловещие, подозрительные, неприступные. Микены — как борец, принявший закрытую стойку, напрягший мышцы. Даже свет, который с беспощадной яростью обрушивается на развалины, отступает обессиленный, посеревший, исполосованный. Не существовало еще двух других миров, столь близких и тем не менее столь антагонистических. Это нынешний Гринич-Вилледж с его вниманием ко всему, что относится к человеческой душе. Сдвинься на волосок в любую сторону, и ты уже в совершенно ином мире. Это громадная сияющая гора ужаса, высокий склон, с которого человек, достигнув своего зенита, упал в бездонную пропасть.