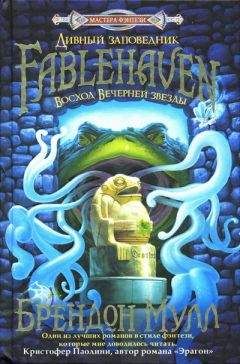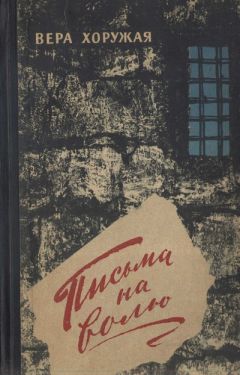— Ну? Что стоишь? Иди, я пока посторожу.
Ника сглотнула. Сказала, теряясь:
— Так… эээ… ну. Спит же!
— Смотрел! Проверяет, — с упоением шипела Нина Петровна, — у кого света нет. А потом делает наводку.
— На водку? Какую водку? — пересохшее горло напомнило Нике о вчерашней вечеринке.
— Причем водка? Это как в фильме, про инспектора Лосева. Только там конфеты, клюква.
— Клюква?
— В сахаре!
Ника зажмурилась и вдруг рассердилась. Выскочить да напинать этого романтика, сидит, тоже мне! А не подумал, каково Нике!
— Мам, перестань, — в голос сказала она и, уходя в коридор, включила в кухне свет. Мама толстым ночным мотыльком прянула от окна.
— Может, он ухаживает за кем. Ты ж была молодая. Забыла, рассказывала про папу, как он тебе пел, и все собаки выли в поселке.
Она открыла ванную и через плеск воды слушала кухонное безмолвие. Вышла, вытирая горящее лицо махровым полотенцем.
Мама сидела, барабаня пальцами по столу.
— Ухаживает? Да за кем тут ухаживать? — воскликнула, явно жалея расставаться с детективным жанром, — и потом папа — то были времена, а сейчас что? Эх…
Ника пожала плечами и резко прошла к плите, торопясь согреть чайник. Всегда вставала перед поездками рано и всегда нервничала, боясь опоздать. Нина Петровна следила глазами за тонкой фигурой дочери, думая о своем.
— Хотя… а ведь ты права, Веронка! Наверное, он к Танечке пришел. Точно, к Танечке.
Ника подавила кашель. Танечка с третьего этажа, рыхлая, с грубым лицом, истыканным черными родинками, злющая, как голодная сколопендра. И — Атос…
— К Танечке, — раздумчиво повторила Нина Петровна, исполняясь сомнений.
— К ней, — бодро надавила Ника, — а больше ж не к кому.
— Ах, — Нина Петровна впала в мечтательность и, обойдя дочь, налила себе кипятку. Села снова, подпирая круглый подбородок мягкой рукой, — как прекрасно, что любовь никуда не уходит, правда, доча? Помню, когда твой папа пришел ко мне делать предложение…
Ника с чашкой ушла в комнату, еще раз проверила сумку и документы, расчесалась перед настенным зеркалом. С тоской подумала о том, что ехать десять часов и хорошо бы перекусить, чтоб не укачало. А еще хорошо б позаседать в туалете, чтоб не метаться в поисках сортира сразу как приедет. Но разве ж оно получится усилием воли. Она сунула щетку в кармашек сумки и снова пошла в кухню.
— … а дядя Веня играл на аккордеоне, так славно играл, только все одно и то же. Три песни. Все танцевали, прямо в общем коридоре. Масло достать тебе? Нет? А варенья? Ну, вот мед еще. А бабушки твоей сестра, она как раз приехала из Пышмы, привезла целый мешок орехов кедровых. И все ходили, хрустели. Налить еще?
Ника дожевала свернутый трубочкой блинчик и снова уединилась в туалете.
— Платье я потом отдала Эльвире, когда она выходила замуж, такое креповое, с газовым шарфиком. Веронка, а ты что так рано встала?
Спустив воду, Ника открыла дверь и сказала в недоумевающее лицо матери:
— Мам, я в Жданов. Коля там, мы договорились. Я приеду через… через три дня. А вечером сегодня позвоню.
— Вероника! Я… я… но ты же мне ничего не сказала! Легла, как партизанка, и не сказала!
— Мама, я езжу к нему уже шесть лет! Даже с половиной! Мы женаты не были, я уже ездила.
— О-о-о, я помню! Ты меня просто убила тогда! Уперлась, поеду и все! А вдруг бы ты забеременела? А? Что бы я, что бы мы делали?
Ника вытащила из комнаты сумку, и устало посмотрела на мать.
— Ты хоть сама слышишь, о чем говоришь? Это шесть лет тому было. У тебя уже внуку четыре с половиной, а ты все — бы да кабы.
— Не груби мне, — взволновалась Нина Петровна, — не смей!
Ника завязала шнурки на кроссовках и выпрямилась, закусывая губу. Поглядела на часы. Все успела, вот только еще одно осталось…
— Мам, ты говорила, денег дашь мне.
— Я? Ну знаешь. Ты ведешь себя, как… как…
— Ясно.
Ника дернула засов и вышла, закрывая за собой дверь, которая тут же снова открылась.
— Веронка. Вероника! Я кому говорю! Вернись, ты же хотела — денег.
Но Ника, нахмурив брови, выскочила из подъезда, твердо ступая бесшумными подошвами, стремительно прошла мимо сладко спящего Атоса и под робкие возгласы матери, что неслись из форточки, свернула за угол дома.
Ветер радостно толкнул ее в спину, подбадривая. Ничего, выл низким голосом в ухо, кидая на шею газовый шарфик сонных весенних запахов, ничего, Куся-Никуся, у тебя в кошельке сто восемьдесят рублей, целая зарплата, да через три дня вернешься и отдашь Тинке остаток. А после долг. На все тебе хватит. Смотри, как летают по майскому утру кроны деревьев, видишь? Весна, Ника, пришла твоя весна.
И она почти побежала, поддергивая сползающую с плеча тяжелую сумку. Засмеялась растерянно, не понимая, откуда взялось стремительное, как чирканье ласточек, ощущение счастья. Почему-то вспомнила Ваську, дурацкую и шебутную, и это успокоило и согрело.
— Ника! — Из порыва ветра вывернулся на нее Атос, тяжело дыша, сорвал сумку с плеча и пошел рядом, моргая сонными глазами.
— Вот даешь, а? Чего ж не разбудила? Я ждал-ждал.
— Атос, у меня дела. Так сложилось. Шел бы ты спать. Через час я уже буду в море.
— Ну я б хоть проводил. Чего ты смеешься опять?
Ника прогнала из головы мысль, что решила бы мама, увидев, как сонливец тащит с ее плеча сумку. Точно позвонила бы в ментовку.
— Нервы, — ответила коротко.
Он кивнул и взял ее руку, сжал, прибавляя шагу.
На сером пирсе морвокзала теснилась толпа, окруженная сумками и баулами. Люди растерянно переговаривались, а по рыхлой сердитой воде грузно прыгала длинная округлая коробка кометы, и трап елозил по дереву, натягивая тросы перилец.
— Иди, — отрывисто сказала Ника, — иди, Атос, я сама.
Тот оглядел серый лоскут воды, обрамленный с одной стороны пирсом, а с другой — ржавой громадой плавучего дока. Поставил сумку наземь:
— Стой тут. Слышишь?
— Я пойду.
— Сказал, стой. Не видишь, какая волна?
Побежал к зданию вокзала, мелькая острыми локтями и показывая светлые подошвы кроссовок. Ника растерянно посмотрела на мятущуюся воду. Как же она не подумала? А вдруг шторм? Черт и черт, ведь совсем настроилась уже.
Атос бежал обратно, на ходу затягивая растрепанный хвост.
— В общем так. Отход откладывается, пока на час. Сказали можно поменять билет на завтра, вроде метеосводка хорошая. Ника, пойдем. Сменяешь билет, побудешь у меня. И домой не надо тебе. А? Отдохнешь, я ж вижу — извелась вся.
— Что? Что он говорит?
— Не будет рейса?
— Как не будет?
— А билеты как же?
— У меня поезд!
Люди подходили, обступая их тесным кругом, глядели на Атоса, будто он тут главный не только над расписанием, но и над погодой. Кто-то, оставив с вещами детей, побежал к кассе, где мужчина в морской форме только что вывесил объявление.
Ника схватила сумку и прорвалась через людей, потащила ее к скамейке и села, глядя на розовое солнце в прядях тонких, быстро летящих облаков. Сказала тоскливо Атосу, который бухнулся рядом:
— Ты не понимаешь. Совсем не понимаешь, да что ж вы такие вот… все… Я не могу к тебе.
— Ну почему?
Она села так, чтоб видеть вход в вокзал и небольшую толпу возле объявления. Поправила волосы, которыми властно играл ветер.
— Я могу рассказать.
И, следя за растерянно бродящими по площадке окруженной петуниями пассажирами, сбивчиво, возвращаясь в прошлое и перепрыгивая во вчерашний день, рассказала Атосу все. И о том дне, когда впервые увидела Никаса на дискотеке, а потом он ее пригласил. И как он через неделю ушел в рейс.
— Как ты сейчас прямо, — усмехнулась, удивляясь совпадению.
Как ругались с мамой, когда Ника показала ей телеграмму из Бердянска и решила поехать. И как мама растаяла, когда Никас поговорил с ней по телефону и клятвенно обещал беречь Никину честь и все прочие ее достоинства. Как звонили ей бывшие девушки Кольчика-Коляна, пугая его криминальной компанией, и как Никасу не давали отпуск, чтоб им расписаться. А он в каждом порту сразу звонил, она срывалась и ехала поездом, тряслась в автобусе, или болталась на комете. И было это хорошо и радостно. Первые два года…
Как постепенно он приучил ее сидеть дома: никаких в гости без мужа и никаких в кино, а уж тем более куда-то из города. Из толпы приятельниц и подруг не осталось никого, как-то потихоньку. И только потом уже появились Тинка и Василина, и их она уже никому не отдаст, даже если чего напортачат, потому что она ведь не приложение к вечно отсутствующему мужу.
И помявшись, краснея от непонятного стыда, рассказала о последних событиях — о письме, звонках, вранье Никаса и его странном голосе.
— Вот, — сказала сипло и прокашлялась, — теперь мне нужно его увидеть, пусть сам скажет.