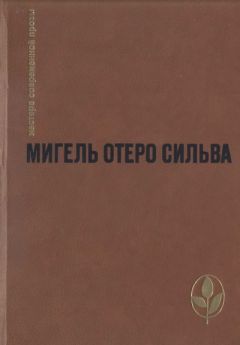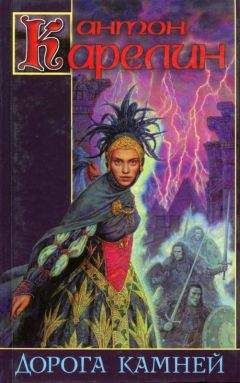Ознакомительная версия.
Танцы
Мы торчим на крыльце клуба, курим. Через открытую дверь слышится какой-то техняк, и там вваливают городские. Нам же катит другой музон.
– Кто там сёдня? – спрашивает подошедший только что Сергулек.
– Ленка, Катька, Маринка, Элька-дачница, – перечисляет не спеша Лёхан (ему, видать, не в лом базарить). – Еще эта, как ее?.. А, хрен с ней. Еще Аленка, Юлька…
– Юльку я забил, – предупреждаю.
Наши телки торчат тут же, на мои слова ржут.
– Забивала!..
– Заткнитесь, твари! – говорю я.
К крыльцу подвалил Миха-дорожник. Он бухой в сиську, в одних трикошках.
– Чё, молодежь, веселимся?
– Вали дальше, урод, – отвечает Редис.
Миха примирительно улыбается:
– Чё ты?..
Михе лет тридцать. Он алкаш-хроник; в прошлом году гусиничный трактор утопил, теперь болтается без работы. Редис его чё-то вообще не может терпеть.
– Ничё, а чё? – злится Редис, его тянет вмочить Михе по морде, но тот вовремя смывается в темноту.
– Презер дырявый, – ворчит Редис, – месяц уже слеги везет. С бати тыщу стряс – все, говорит, сделаю, с лесником добазарился… Еще увижу, урою, блин.
– Да забей, – говорю, – не порти вечер.
Стоим курим. В клубе до сих пор все техняк.
– Эй, Олька, – зовет Сергулек.
Олька сидит на периле, отзывается сожженным спиртягой голосом:
– Чё?
– Пойдем в кусты, а.
– Иди в жопу!
Все ржут. Техняк кончается, и мы ломимся в зал, щас будет звиздатая вещь – «Стюардесса».
А это звиздец! Все прыгают, пол трясется. Воздух воняет духами, потом и водярой. Юлька тоже танцует. Маленькая, пухленькая, из Барнаула. Приехала на лето к бабке. Дементий уже поимел, говорит, что ништяк. В том году она была какая-то недозрелая, а теперь заебитэлз. Херли – в десятый перешла.
После «Стюардессы» какой-то медляк на иностранном. Я тут же схватил Юльку. А, пухленькая, теплая. Класс!
Я ей говорю:
– Ну, ты вообще, Юлёк! Я от тебя хренею!
Она взглянула на меня темными глазами, промолчала. Но видно, что ничё, все ништяк. Я ее обхватил покрепче.
– Я хочу тебя, Юль! Вообще…
Она не освобождается, а наоборот – улыбнулась, положила мне голову на грудь. Мы с ней танцуем. И другие тоже танцуют.
После медляка зажигается верхний свет. Музон вырубают. Тетя Тамара – директор клуба – говорит:
– Ну, вы будете платить или нет?!
Щас танцы каждый вечер, потому что киномеханик дядь Степа в запое, а билет по пятьсот рэ. Звиздец! Платят только городские и кое-кто из наших, у кого башли есть.
– Заплатили, у кого были, – орет Лёхан, – врубай музон!
– Давай, теть Том! – тоже ору. – Чё вечер-то портить?!
– А ну вас! – плюется тетя Тома и уходит к себе в каморку.
Лоб врубает музон. Про морячку песня. Старая, но забойная. Прыгаем. Я рядом с Юлькой. Она делает звиздатые движения. Я хочу ее вообще!
– Редис, пойдем вмажем! – зову Редиса.
Он кивает, прыгает вообще, свистит. После морячки идем на крыльцо. Я держу Юльку за руку. Редис достает из джинсовки пузырь «Русской».
– Погнали в скверик, – говорю я.
– Погнали.
Я, Редис, Юлька и Сергулек идем в скверик за клубом. Скверик клевый. Ранетки растут, какая-то вонючая мелкая травка. Садимся на травку. Редис разрывает закрывашку зубами. Гоним по кругу.
– Я не умею так, – говорит Юлька, когда очередь доходит до нее.
– Учись, – говорю я. – Делай глоток побольше и дыши в себя глубоко. И все заебитэлз будет! Дава-ай!
Она слушается, но потом ахает и охает. Я сую ей в рот кусок конфеты. – Спасибо, – говорит она, когда снова может говорить.
– Всё для вас, лишь бы улыбались…
– Буха́ете? – Это Олька подошла.
Ольке уже двадцатник, ее давно все поимели, даже Воробей из девятого. Она буха́ет, как утка. Худая вся, голосище вообще, но еще ничё так, на крайняк потянет.
– Дайте мне в дэцэл, – просит, – а то башка болит вообще.
– У тебя всегда болит, – ворчит Редис.
– Ну, глоток.
Сергулек говорит:
– А в кусты пойдем?
– Пойдем, радость моя, пойдем, – соглашается Олька.
Ей дают пузырь, она стоя отпивает граммов сто за раз.
– Хорош, дура! – Редис отбирает пузырь.
Олька чмокает, тащится. Садится к нам. Курим.
– Юлёк, как тебе тут? – спрашиваю у Юльки.
– Ничего, – отвечает она. У нее такой нежный звиздатый голосок, вообще.
– Ты из Барнаула, да? – беседую дальше.
– Да, – отвечает она. – Ты вчера уже спрашивал.
– Да ты чё! – смеюсь я.
– А я в Барнауле не был, – говорит Редис.
– Ты и в районе не был, – говорит Сергулек.
– Не стягай! Был два раза.
Олька вздыхает:
– Везде херово.
– Хер знает, – тоже вздыхает Сергулек.
Снова гоним пузырь. Юлька сперва отказывается хлебать, но потом хлебает. Снова ахает, охает. Я даю ей закусить остатками конфеты.
– Научишься, – утешаю.
Когда допиваем, Редис уходит в клуб. Олька тоже хочет идти, но Сергулек ловит ее за ногу. Они куда-то смываются. Я обнимаю Юльку. Под ее водолазкой ощущаются крупные твердые титьки.
– А у вас метро там есть? – шепчу я.
– Нет, – шепчет она.
– Хреново.
Я ее целую в рот. Чувствую вкус губной помады. Стираю помаду ладонью с ее губ и целую уже всерьез. Потом она ложится на траву. Я сверху. Звиздато!
1994 г.
Этой ночью у Петраковых украли аккумулятор, прямо из машины вытащили. Перелезли, видно, через забор, подковырнули капот, открыли калитку и унесли. Гаража у Петраковых нет, «Москвич» во дворе стоит, собаки тоже нет пока, не успели завести; они сюда совсем недавно переехали, недели две назад. Жили в бывшей автономной, а теперь суверенной республике, жизнь там осложнилась, и они переехали. Купили двухкомнатную избу в этом сельце и стали обустраиваться. Николай Иванович Петраков, его жена, сын и дочь.
Утром Николай Иванович, крепкий еще, пятидесятилетний мужчина, бывший чемпион республики по классической борьбе, стоял у приоткрытых ворот и разговаривал с дедом Сашей, длинным, сгорбленным стариком.
– Пакостят, пакостят, – безнадежно, громким, как у всех туго слышащих, голосом соглашался дед Саша и покачивал маленькой сухой головой. – Раньше не допускалось такого, а счас – пакостят, и среди бела дня пакостят. И не остановишь.
– М-да… – щурился Петраков, докуривая «примину». – Не знал…
Дед Саша устало поправил на плече коромысло с пустыми ведрами; он шел к колонке, но тут ему встретился Петраков со своим горем, разговорились.
– А кто мог это сделать? – спрашивал Николай Иванович. – Кто у вас тут такой?
Он был даже не столько расстроен кражей аккумулятора, сколько удивлен и ошарашен. И хотелось выяснить, чего ждать ему, его семье в будущем, как-нибудь обезопасить добро, новый дом.
– Да кто… Да, почитай, – дед Саша качнул коромыслом, ведра тихо и тоже вроде как раздумчиво поскрипели, – почитай, кажный третий на это может пойти. А как… Да вон, – обернулся и мотнул головой, – крайня изба, там Дороховы живут. Отец ничё, он трактористом, а оба сына болтаться. Одному уж за двадцать, другому на службу давно пора… Старший-то отслужил… И нигде не работат ни один, ни другой… Да и негде. Чего… И пьют.
– Так. А еще кто мог?
Дед Саша протяжно, как от боли, вздохнул. Подумал.
– Да многие, многие могут. Я ж говорю… И Андрей вот Костянцев, его и из скотников выгнали, корма тащил с фермы. И он может.
Летнее солнце взобралось уже довольно высоко, окрепло, нагрелось и теперь посылало первые жаркие лучи земле, слизывало с травы росу, и от травы шел еле заметный парок. К пруду спешно шагали отпущенные до вечера утки и гуси, куры суетились под заборами, что-то клевали. Три девочки лет десяти, весело обзываясь, шли в лес за жимолостью. Замахивались друг на друга бидонами.
– Да ты, Николай Иваныч, шибко-то не это, – пытался успокаивать дед Саша. – У меня тоже вот семь овец еще в прошлом годе было, и в одну ночь всех увели. Как корова слизнула. Да. Семь овечек. Так вот пакостят. Я, это, и награды боюсь надевать. Они теперь, говорят, в цене…
Петраков смотрел куда-то за спину дед Саше, все так же щурился, хотя и уже не курил.
– А участковый или кто-нибудь типа него здесь есть?
– Да есть, – оживился было дед, – а как же!.. Только, это, ему это до фени всё. Такой человек. Тут хоть режь-убивай, и не моргнет. И жаловались, писали на его, а толку-то… Да и не едет никто.
Подошла с ведрами соседка по улице Валентина Петровна, послушала, поняла, в чем дело, и включилась в разговор:
– Да пьянчуги всё это. Они и тащут. Пить-то надо, вот и тащут, а потом продадут и пьют запиваются. К нам тут залезли, бельишко старое с веревки даже посняли. Заплата на заплате, а вот – теперь и его не стало. Гусей выпускаю вон – и весь день трясусь: вернутся вечером или нет. Да эх-х… – Соседка вздохнула, сделала движение идти дальше к колонке, но передумала. – А вот тоже было недавно, вы, дед Саша, слыхали, наверное… У Кондакова, у шофера, кто-то повадился бензин таскать. У него машина-то прямо в ограде стояла. И он вроде заправит полный бак, а утром заведет, поездит маленько, и бензин кончатся. Что такое? Бак не худой, трубки проверил все, а бензина нет. Ну, раз, другой. Он и решил: кто-то сливат ночами. Но собака молчит, даже голосу не поддат. И стал он караулить. Взял вилы, сел за поленницей. Одну ночь – ничё, другу, третью, он уж и позеленел весь, Кондаков, с недосыпу. А потом пожаловали, голубчики. Кондаков – прыг к имя, вилами замахнулся, а это племяши его родные. «Ах вы, ироды! – кричит. – Я же вас чуть не попорол». Для мотоцикла вот сливали бензин себе. Он их к отцу. Отец уж с имя сам разобрался, не церемонился. Порасшибал морды. Неделю в школе не были…
Ознакомительная версия.