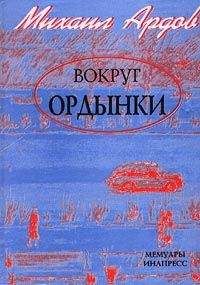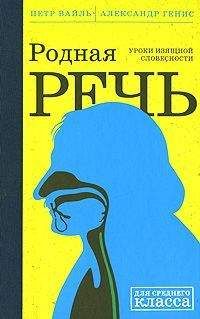август 1970
Ага! Опять — красные портьеры…
Нет, тюрьма определенно гипнотизирует, тянет его…
Кабы беды не было…
А может, это и к лучшему?
Тюрьма — известная русская Ипокрена.
Бог мой, не всегда же я был таким медведем, не всегда сосал лапу в своей берлоге… Нет, были когда-то и мы рысаками, и мы бегали, носились по всей Москве… Пожалуй, любил я только Моцарта, консерваторию, концерты… Оперу, балет — гораздо меньше. А к драматическим театрам, как ни старался себя приучить, всегда испытывал непреодолимое отвращение.
Дама моя, будущая салонодержательница, частенько таскала меня в Камергерский, и я честно там скучал целыми вечерами. Особенно удручающе на меня действовали пьесы Чехова. Я их все видел на сцене и читал, наверное, по нескольку раз, но так ничего и не помню — кто Астров, кто Раневская, кто Шкап, кто Вершинин… Все в голове перепуталось. Помню только его любимый драматический эффект, в последнем акте там непременно кто-то самоубивается за сценой — не то какая-то птица, не то какой-то доктор медицины…
Я теперь почти ничего не читаю.
Книги мои лежат до сих пор нераспакованные — с самого переезда, как я укладывал их еще в Москве — в картонных ящиках из-под макарон и сливочного масла. Теперь они составляют унылую кучу в углу комнаты, и, как видно, пребудут в незавидном этом состоянии до того самого дня, когда племянницы мои две и, естественно, наследницы — заезжанные, уже немолодые советские мымры с опущенными животами, когда они, бедняжки, ринутся сюда прямо из крематория и начнут метаться между посудным шкафчиком и этим углом, между Кузнецовым, Гарднером и Сытиным, Сайкиным, Марксом (не Карлой, не Карлой) и метание это составит для них несколько часов живейшего наслаждения.
На поверхности у меня очень мало томов. Пушкин, Баратынский, Гоголь, Тютчев, кое-что из Бунина и Достоевский — тот самый полный марксовский, что сидел со мною в Бутырках. (Толстого не выношу. Старый павиан — избрал себе амплуа проповедника.)
Достоевского чаще всего листаю. Весов, Подпольного человека… И это уже получается не чтение — я почти все те места наизусть знаю — это уже род какого-то мазохистского растравления собственных язв, чему не подберу сейчас точного наименования…
Заносит меня временами и в Дневник писателя… Тут уж я то взвизгиваю от восторга, то готов разодрать книгу в клочки, затолкать ее в диван, туды ее, туды, ему в подкладку…
Что за тупость! И на одной странице с такими озарениями…
Как это в одной голове, в умной голове уживается Христос с империализмом?..
Эх, разбудить бы его сейчас, этого полупровидца, поглядел бы он, великий путаник, как бесы, те самые бесы, выхватили ловко у него самого его же бредовые идеи… Поглядел бы он на нынешнее всеславянское братство, на Прагу да на Варшаву, на то, какого рода мессианская идея гоняет по всем четырем океанам армады бронированных страшилищ с русским экипажем на борту…
Христос и империализм?
Да не то что бы Он и империализм были совместимы, но и Христос и патриотизм и то — глупость, чудовищная несообразность — несть эллин и иудей!
Я не много в моей жизни читал Евангелие, оно и сейчас у меня пылится где-то в ящике из-под макарон, но кое-что я все-таки усвоил. Христос родился и прожил жизнь в стране, порабощенной римлянами. Он был распят легионерами, но ни разу слова не сказал, пальцем не шевельнул, чтобы переменить такое положение… (Хотя, кажется, эти еврейчики только того от Него и ждали.) А Он велит им исправно платить подать ненавистному кесарю…
Вот тебе и патриотизм! Вот тебе и национально-освободительное движение малых наций!
Ума не приложу, как эти, наши, ухитрились в свое время пристегнуть Христа к своему квасу?..
Эх, поговорить бы об этом с умным человеком…
Только негде мне такого собеседника взять… Не с соседним же сосунком мне обсуждать эти материи. (Да и он, вот видишь, куда-то запропастился.)
Нет, мне нужен из них кто-нибудь самый главный и бесспорно честный… Сергия бы Радонежского об этом спросить, вот кого…
А на меньшее — я не согласен.
— Ну, чего глядишь? Чего смотришь?.. Тут ведь церква была, острожная церква. А теперь тут милиция, вон участковые сидят. Она, церква, без колокольни так и была, вроде как без главы… Так-то колокола висели, а главы-то не было, и паперть под ней… А внутри она, так-то небольшая церква, вся без колонн, целиковая. Один Алтарь. И священник тут один — отец Михаил. Старый был старый, а прозорливый… Вот и слушай, слушай, коль охота… Тогда еще была русско-немецкая первая империалисти-ческая война. Аккурат в половине сентября пятнадцатого года. И вот пятнадцатого-то сентября поступил тогда манифест-то от императора, от Николая… Дескать, Божию милостью, Мы, Николай Второй, Царь Польский, Царь Астраханский объявляем всем нашим верноподданным, дескать, коварный враг Германия напала на Советский Союз…то есть тогда еще на Россию, а поэтому, дескать… Не помню уж, как тут высказаться… Приказываю мобилизовать всех ратников второго ополчения… А я-то аккурат был ратник второю ополчения. Значит, и мне приходится служить. И было мне в то время тридцать два года, в шестнадцатом-то уж году… Двадцать шестого числа марта месяца мы и приехали с женой сюда, в город. Ночевали тогда в постоялом дворе. Двор Березина — на самом базаре. Аккурат угольный-то дом. Ну, по тому времени, конечно, постоялый двор. Кроме ночлегу наверху у него была чайная… В шесть часов утра у него был подъем, а полседьмого можно уж идти наверх, чай пить в чайную… Отпивши чаю в семь часов, пришлось нам с женой идти в военное присутствие, где принимают… Ну, вот, придя туда, узнаем, что приемка у них начинается в девять часов. Ну, чего делать?. И вот в свободное-то время зашли мы с женой аккурат в эту церкву. В острожную церкву. И служил тут священник, старик лет восьмидесяти, как не больше… Отец Михаил… Молилось тут женщин-старушек человек вроде того двадцать-двадцать пять. Ну, служба кончилась, начал этот священник давать Крест. Выждал я, как приложатся все старушки, и так-то последним подошел и я ко Кресту. А жена сзади, за мной… Приложился и говорю ему: «Батюшка, благословите послужить на службу…» И вот, несмотря на его старость, после моих этих слов он вроде как выпрямился и взглянул на меня таким прозорливым взором, что я не мог устоять на этом месте. Пришлось сдать шаг назад. И вот он, священник, сделав крест, поднял руку и говорит: «Благословляю, Федорушка, послужи, послужи… Ведь тебя Федором звать-то?» Которого я не видал сроду, а он называет меня по имени, Федором… Ни я его, ни он меня сроду не видались, не знались… «Надо, надо, — говорит, — постоять за Веру, Царя, Отечество. Благословляю, благословляю! Ведь война пройдет недолго, недолго. Конец ей близок, близок. Вы уж были там, вон сколько там народу-то… И все идут, все идут…» Это — в присутствие-то. Вроде он с нами не был, а как будто там и был. Потом подходит под благословение жена. Со слезами на глазах. Он благословил и говорит: «Не плачь, не плачь, молодуха, Бог милостив…» «Батюшка, — говорит, — у меня больно детей-то много. Свекор параличной, свекровь-старуха семьдесят лет. С кем я буду работать? Все мал мала меньше… Старшей семь лет, а их пятеро…» — «Бог милостив, — говорит, — Бог милостив. Все сработается, все сработается это…» И опять повторил: «Войне-то конец близок, близок». Жена и говорит: «Батюшка, уж как на войну-то угонят, за день человека могут убить али искалечить. Может, придет калекой?..» Опять повторяет: «Бог милостив. Его на войну-то не пошлют. Он будет служить на окраине большо-ого города. Вот только сначала-то подольше, а потом частые, частые будут свидания». Тут он, отец Михаил, поднял вторично руку и благословил второй раз. И тогда уж я с полной надеждой вышел из церквы, от него. В душе уж был уверен я. С какой-то особой надеждой. По первости-то тогда угнали нас в Орел. УЧИЛСЯ я там, в Орле, два месяца А потом по особым спискам всех, кто что может работать, вызвали в Москву. Я как медник, паяльщик по профессии, служил на Преображенской заставе в Москве. Во второй запасной автомобильной роте… Аккурат на окраине большо-ого города. Все так оно и вышло. А на второй-то год уж и свидания, они у нас частые пошли. Через воскресенье. На пятичасовой поезд, на вокзал, и в ночь уж я дома… А служил на Преображенской заставе, до вокзала мне чего тут?.. Да… Ну, возвратился я тридцатого апреля домой, это уж в восемнадцатом году. Побывал тогда у отца Михаила, поблагодарил его за прозорливость… И был я ему знаком до двадцать восьмого года. До его смерти в аккурат. Уж церкву-то эту нарушили, он там наверху, в Яропольи служил, у Троицы. И на дому я был у него не раз. Вот тут прям на горе домишко, по левой руке… Окошка четыре в улицу-то. Раз десять ли, двенадцать был у него. Жена тоже ездила, и жену, покойницу, он принимал. До двадцать восьмого года. Но уж он напутствовал, лежал. Не вставал. Уж не принимал которых… Вот, помню, в двадцатом году. Неурожайно у нас было тут, и пришлось нам ездить за хлебом в разные губернии. В Нижегородскую. Туда, как поехали, я еще не заходил к нему. А было нас два компаниона, был еще сосед. На обратном пути, когда мы ехали из-под Арзамасу, где мы меняли иконки на хлеб, я зашел к нему, к отцу Михаилу… Ну, посоветоваться, навестить просто. Поговорили мы с ним так с полчаса А на прощанье он мне и говорит: «Товарищ твой вторично поедет за хлебом туда же. А уж ты с ним не езди, не езди.