— Не бойтесь! — крикнул Леон, и его лицо задрожало, как маленькое неяркое пламя, выбивающееся из складок белой скатерти. — Смотрите, я возвещаю вам великую радость!
— Вам разрешается сдохнуть, вот и все! — перебил Курт.
Ангел смолк от недоверия, прихлынувшего с ночных полей, смолк перед бледными лицами выданных на заклание. Он не знал, что дальше.
— Нет, далеко еще не все, — пришел ему на помощь из темноты кто-то из детей, — сегодня еще принадлежит вам…
Внизу по узкой улочке проехал тяжелый грузовик. Окна задрожали, и небо за окнами тоже начало дрожать. Дети вздрогнули, хотели броситься к окнам, но не двинулись с места. Грузовик взревел, прогромыхал мимо и уехал. Любое громыхание рано или поздно смолкает перед тишиной: любой звук напрасен, если не заполнен тишиной.
— Играйте, играйте дальше!
Играть. Это была единственная возможность, которая им оставалась, устойчивость на волосок от непостижимого, стойкость перед тайной. Молчаливейший приказ: играть ты должен перед лицом моим!
Это открылось им в водопаде мучений. Как жемчужина в раковине, в игре таилась любовь.
— Не ссорьтесь, идите сюда!
— Смотрите, меркнет наш свет,
его прогоняет гроза,
и сил у нас больше нет.
— Слипаются наши глаза.
Вступила тишина, которая была условным сигналом для Ангела. Леон рывком спрыгнул со шкафа в матовый фонарный круг. Он прыгнул в самую гущу детей, чтобы остаться над ними. И он бросил им назад их вопрос:
— Вы видели свет?
— Не видели никогда.
Бродяги бессильно опустились на землю; решительным движением они глубоко надвинули капюшоны на растерянные лица.
— Если бы вы могли видеть себя так, как я вас вижу! — пробормотал Ангел вопреки своей роли. — Как вы тихо здесь лежите, в этой мрачной комнате, и с какой нечеловеческой храбростью!
Он уронил руки. Ему страстно хотелось увидеть и запечатлеть образ. Если бы вы могли видеть, как я вас вижу. Но свет шел на убыль.
— Как жалко, Леон, что ты никогда не станешь режиссером!
— Почему же, стану. В грузовике и в вагоне будет играться первоклассная пьеса, можете мне поверить! Без хеппи-энда и без аплодисментов: пускай зрители уйдут домой притихнув, с бледными лицами, светящимися в темноте…
— Спокойно, Леон! Ты что, не видишь, как вы все раскраснелись и как у вас вспыхнули радугой глаза? Разве ты не слышишь: они уже сейчас смеются так же, как они будут смеяться, когда нас повезут через мосты!
— Леон, в какой валюте тебе будут платить, и с каким обществом ты заключил договор?
— С человеческим обществом, платить будут огнем и слезами.
— Останься ангелом, Леон!
Леон колебался. Он простер руки над спящими бродягами. «Спите крепко…» — Он перевел дух, мгновение помолчал, а потом заговорил дальше:
И, может быть, во сне
подарит вам Господь
то, что искали вы,
избрав неверный путь.
Гасите ваши фонари,
они домой не приведут:
ведет один лишь свет любви
чрез ветхий мост над бездной!
Ангел склонился и задул фонари. Сам он остался в темноте, как последняя одинокая свеча в темном окне.
Гордыня вам пригодится навряд,
вы лучше отбросьте ее навсегда.
Любовь рядится в другой наряд.
Зачем вам идти и куда?
Вы ищете путь, что к миру ведет?
Бессмысленны ваши раздоры.
А мир у каждого в сердце живет,
вы это поймете скоро.
Ангел так широко простер руки над тремя спящими, как будто хотел распространить этот жест на всех спящих вообще, в том числе на тайную полицию, которая воображала, что не смыкает глаз, а сама предавалась беспробудной спячке.
Спите же спокойно,
может быть, во сне
вам Господь подарит
то, что вы искали
в смерти и в огне.
Потушите фонари —
они не осветят вам путь домой.
Свет любви, лишь ты гори,
гори надо всей землей.
***
Ангел отступил назад. Бродяги беспокойно заворочались во сне. В потемках было слышно, как взволнованный Иосиф уговаривал Марию: «Пошли, наша очередь!» Но она не двигалась с места.
— Иди! — крикнул Ангел.
Мария крепче ухватила сверток. — У меня нет покрывала, — сказала она, — а без покрывала я не играю.
— Что ты себе думаешь? — спросил Леон. — Что дальше?
Трое бродяг вскочили и с воплями накинулись на нее:
«Играй, ну пожалуйста, играй!» И даже Война с каской в руке попросила: «Играй дальше, ну играй же!» Их крик был слышен даже на лестнице.
— Ты хотела играть Марию, да или нет?
— Да, — ответила Биби, — но с покрывалом. Вы обещали мне покрывало, и без покрывала я играть не буду! — Она робко прижала к себе сверток.
— Если дело только за этим… — медленно сказала Эллен и рывком открыла свою сумку. В полутемной комнате сверкнула белая ткань. Биби отложила сверток в сторону. Остальные повскакали с ящиков и кресел, подошли ближе и потрогали покрывало холодными пальцами. Биби уже схватила его и завернулась.
— Какая ты красивая! — закричали дети. Они хлопали в ладоши, собирали покрывало в складки и вновь расправляли, и ослепленные возводили глаза к небу, как бедные души на краю чистилища, там, где небо и преисподняя граничат своими последними полуостровами. И они счастливо смеялись. Если бы вы могли видеть, как я вас вижу, думал Леон. Но в то самое время, пока он считал, что картина от него ускользает, на ней покоилось недремлющее око уложенного в сторонке Бога.
— Если дело только за этим… — сердито повторила Эллен. Ее лицо, исполненное ожидания, вынырнуло за спиной Биби. И прежде, чем та решилась оторваться от своего удивленного отражения в зеркале, Эллен сорвала с нее покрывало, взмахнула им и завернулась в него сама. Ее глаза мрачно сверкнули из струящегося блеска.
— Слушай, ты… — крикнула Биби, — ты похожа на погонщика верблюдов!
— Вот и хорошо.
— Отдай покрывало, — невнятно сказала Биби. Безмолвно и непримиримо стояли они лицом к лицу. Чудо сошло на землю, но земля хотела сама быть чудом. Мария поставила условия, Ангел забыл предостеречь трех царей-волхвов, и Бог попал в руки Ироду. — Отдай покрывало! — повторила Биби. Она дрожала от ярости. Как хрупкое чужое оружие, взлетела ее рука и вцепилась в ткань. Эллен отпрянула. Они запутались в покрывале, каждая дергала к себе и не отпускала. Оставалось только тихое шуршание шелка, страх всех покрывал на свете быть порванными. Но прежде чем до этого дошло, оно расправилось, светлое, все светлее и светлее, паря, как нечто примиряющее между сном и явью, как тишина Благовещения, и вдруг устало опустилось на землю, никем больше не удерживаемое. Вспыхнула искра, — они поняли, за что сражаются.
— Занавеска, — пробормотал Леон и предостерегающе протянул обе руки.
— Занавеска, которую в последние дни вышивала Ханна.
— Для дома на шведском побережье.
— Для белой комнатки с высокими окнами, где будут спать ее семеро детей.
Семеро детей, которые спят так крепко, что никто не в силах их разбудить, семеро детей, спящие так сладко, что никакой Бог их не потревожит. Семеро детей, на которых не пало проклятие родиться, носить клеймо и быть убитыми.
— Когда ты ее видела, Эллен?
— Вчера, поздно вечером.
— Она уже что-то знала?
— Да.
— И что она делала последнее?
— Укрепляла пуговицы на пальто.
— Семь пуговиц, — сказал Леон.
Снова побежала трещина по льду темного пруда, и бежать дальше становилось все опасней.
— Она еще хотела написать вам письмо, — сказала Эллен, — но не успела и дала мне только это. Сказала, если вам это понадобится для игры, она не против.
— Не нужно было у нее брать, Эллен: ей бы пригодилось от мух или от солнца.
— От солнца?
— Потому что Ханна не любила слишком яркое солнце. Говорила, солнце — обманщик, оно меняет людей, делает их жестокими.
— Поэтому занавеска должна была колыхаться на морском ветерке. Слегка колыхаться в окне!
— Будет колыхаться, — сказала Эллен.
— Саван, — тихо сказал Георг. — Для мертвых детей.
— Ты про кого? — испуганно спросил Герберт.
— Не про тебя, малыш!
— Нет, ты имел в виду меня!
— Может быть, я имел в виду всех нас, — пробормотал Георг.
— Лучше бы Ханна оставила покрывало у себя, может быть, оно бы ее защитило.
— Остается только то, что отдаешь.
Дети испуганно подняли головы. Никто так и не понял, кто это сказал. Светлый голос Ангела в мрачном сне. Нам остается только то, что мы отдаем.
Так отдайте же им все, что они у вас берут, ибо они от этого станут еще беднее. Отдайте им ваши игрушки, ваши пальто, шапки и жизни. Раздарите все, чтобы это вам осталось. Кто берет, тот теряет. Смейтесь над пресыщенными, смейтесь над успокоенными, что лишились голода и тревоги — драгоценных даров, ниспосланных людям. Подарите последний кусок хлеба, чтобы сохранить голод, отдайте последний кусок земли и пребудьте в тревоге. Озарите тьму сиянием ваших лиц, чтобы оно стало еще сильнее.

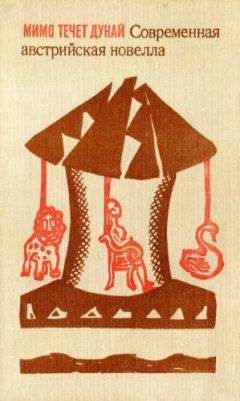


![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)
