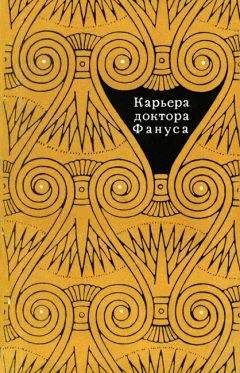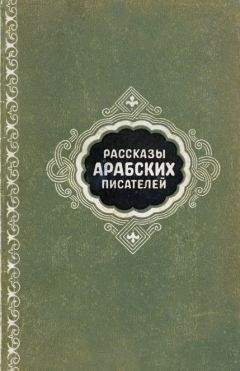Внешность у этого Али была безобразная. Характер тяжелый. Работать он не любил. И вместе с тем не было в деревне человека, который относился бы к нему недоброжелательно. Напротив, все его любили и пересказывали друг другу всякие истории о нем. Не было большего удовольствия, чем окружить шейха кольцом и дразнить его. В гневе он бывал очень смешон. Когда он сердился, лицо у него становилось землистым, голос срывался. Все хохотали до упаду, подзуживая его, пока не надоест, и восклицали хором: «Да вознаградит тебя аллах, шейх Али!» А потом оставляли его в одиночестве изливать свой гнев на «Абу Ахмеда». Абу Ахмедом шейх Али величал бедность, которую полагал единственным своим заклятым врагом и говорил о ней так, словно она была существом из плоти и крови. Бывало, кто-нибудь спросит его:
— Ну как у тебя нынче обстоят дела с Абу Ахмедом, шейх Али?
И шейх Али сразу приходил в бешенство. Он не любил, когда ему напоминали о его бедности. Сам он мог говорить о ней, но от других слышать не желал ни единого слова. Ведь шейх Али, несмотря на свою внешнюю грубость, был очень застенчив. Он предпочитал по нескольку дней оставаться без табака, нежели попросить у кого-нибудь сигарету. Он постоянно носил при себе иголку с ниткой, чтобы залатать галабею, если она порвется. Когда же она становилась грязной, он уходил подальше от деревни, стирал свою одежду и ждал в чем мать родила, пока она высохнет. Да и единственная его чалма всегда была самой чистой в деревне.
Понятно, что жители Минья ан-Наср смеялись, услышав эту новую историю. Но смех быстро затих, и языки от страха прилипли к гортаням. Слово «отречение» — прескверное слово. В этой деревне, как и во всех прочих, люди привыкли жить в страхе божием. Здесь, как и повсюду, были хорошие люди, которые только и знают что свой дом да работу, были и мелкие воришки, промышлявшие початками кукурузы, и жулики покрупнее, которые забирались в загоны для скота и уводили оттуда коров. Были торговцы, заключавшие серьезные сделки, а были и такие, чей товар не стоил и горстки пиастров. Из женщин одни греховодничали тайком, другие — на виду у всех. Правдивые и криводушные, больные, старые девы, праведники — всякие люди были в деревне. Но все они, едва заслышав зов муэдзина, спешили в мечеть, на молитву. Никто не осмелился бы нарушить поста в рамадан. Существуют неписаные законы, определяющие жизнь всех и каждого. Это — обычаи. Вор не крадет у вора. Никто не срамит другого за его ремесло. Никто не поднимает голоса вопреки общему мнению. И вдруг шейх Али, попирая все правила, обращается прямо к аллаху, без всяких посредников.
Сперва люди смеялись, но стоило им послушать то, что говорил шейх, как смех тут же стихал.
Голова его была непокрыта. Короткие седые волосы взмокли от пота. В правой руке он сжимал свою палку-хукумдар, и глаза у него горели лихорадочным огнем. Лицо выражало дикую, слепую ярость. Он взывал к небу:
— Чего ты от меня хочешь? Можешь ты мне сказать, чего ты от меня хочешь? Аль-Азхар я бросил из-за кучки шейхов, которые вообразили себя ревнителями веры. С женой я развелся. Дом продал, Абу Ахмед мытарит меня больше других. Нет разве на свете никого, кроме меня?! Покарай Черчилля либо Занхаура. Или ты только против меня всемогущ? Чего тебе от меня надо? Прежде, бывало, не поем я один день, ладно, думаю, ничего, это все равно как в рамадан. Теперь же я не ел с позавчерашнего дня, не курил неделю. А уж зелья[26], упаси господи, не пробовал целых десять дней. Ты вот говоришь, что в раю мед, и плоды, и молочные реки. Так почему же ты мне этого не даешь? Дожидаешься, покуда я умру с голоду и попаду в рай, чтобы наесться досыта? Нет, создатель, так дело не пойдет. Ты меня сперва накорми, а потом уж отправляй, куда хочешь. Убери от меня Абу Ахмеда. Пошли его в Америку. Приписан он ко мне, что ли? За что ты меня мучишь? У меня ничего нет, кроме этой галабеи да хукумдара. Либо сию секунду накорми меня обедом, либо немедля забирай к себе. Накормишь ты меня или нет?
Все это шейх Али выкрикивал в крайнем возбуждении. На губах у него даже пена выступила. Он весь покрылся испариной. В голосе его звучала ненависть. У жителей Минья ан-Наср сердца разрывались от страху. Они боялись, что шейх действительно выполнит свою угрозу и отречется от веры. Да и не одно это было страшно. Сами слова, которые произносил шейх Али, были опасны. Ведь аллах мог прогневаться и отомстить всей деревне, наслав на нее всяческие бедствия. Слова шейха Али таили в себе угрозу для каждого. Надо было во что бы то ни стало заткнуть шейху рот. Поэтому наиболее рассудительные начали ласково уговаривать шейха, просили его образумиться И замолчать. Шейх Али ненадолго оставил в покое небеса и обернулся к толпе:
— Почему это я должен молчать, вы, мужичье? Молчать, покуда не сдохну с голоду? Не буду я молчать. Вы боитесь за свой кров, за своих жен, за свои поля. Всякий трясется за свое добро. А у меня ничего нет, и я ничего не боюсь. Если он на меня гневается, пускай возьмет меня отсюда. Пускай ниспошлет кого-нибудь меня убрать. Ежели прилетит Азраил, я обломаю хукумдар об его голову. Клянусь верой и всеми святыми, не замолчу, ежели он сию секунду не пошлет мне с неба стол с яствами. Чем я хуже девы Марьям?[27] Она как-никак была женщина, а я-то мужчина. И она не была бедна. А меня Абу Ахмед вконец замучил. Клянусь верой, не замолчу, ежели он не пошлет мне стол с яствами.
И шейх Али снова громко воззвал к небу:
— Эй, посылай живо, или я ни перед чем не остановлюсь, сделаю, что говорю. Давай сюда стол, и чтоб на нем было две курицы, блюдо с медом и четыре свежие лепешки. Хлеб беспременно теплый. Да не забудь про салат. Считаю до десяти. Ежели стола не будет, смотри у меня…
Шейх Али начал считать. Сердца жителей Минья ан-Наср стучали в ритм с его словами. Нервы у всех напряглись до предела. Необходимо было что-то предпринять, дабы остановить шейха Али. Кто-то предложил, чтобы несколько самых сильных парней набросились на шейха, повалили его на землю и заткнули ему рот. А потом избили так, чтоб он надолго запомнил. Однако стоило шейху бросить на них один-единственный взгляд, пылающий гневом, и они тотчас отказались от этого намерения. Прежде чем они успели бы схватить шейха, он наверняка нанес бы удар-другой своим хукумдаром. Никому не хотелось, чтобы удар железным наконечником пришелся на его долю. Если шейх грозит проломить голову Азраилу, то уж голову любого из них он размозжит, не задумываясь. Поэтому предложение осталось втуне.
Кто-то из толпы спросил шейха:
— Ты ведь, дядя, всю жизнь голодал. Отчего именно сегодня?..
Метнув в него испепеляющий взгляд, шейх Али прервал говорящего:
— На сей раз, Абдель Гавад, дело слишком затянулось. Понял, ты, недотепа?
Другой крикнул:
— Ну ладно, брат, ежели ты голодный, отчего не сказать нам? Мы б тебя накормили. Зачем городить всякие глупости?
Шейх Али напустился на него:
— Да разве я у вас чего-нибудь прошу? Стану я попрошайничать тут, в нищей деревне? Да вы сами голодаете почище моего! Зачем мне ваша милостыня?.. Я требую с него. А ежели не даст, то я знаю, как мне быть.
Тут снова вмешался Абдель Гавад:
— Если б ты работал, не пришлось бы тебе голодать, бесстыжие твои глаза.
После этого гнев шейха Али достиг предела. Он стал размахивать палкой и возопил, обращаясь попеременно то к толпе, то к небу:
— А твое какое дело, Абдель Гавад, сын Ситт Абуха? Я не работаю, потому что не хочу работать, не умею. Нету для меня работы. Разве вашу работу можно назвать работой? Пускай ослы так работают! А я не осел! Я не могу надрываться целый день в поле, подобно волу. Будьте прокляты вы и ваши отцы, быдло вы безмозглое! Клянусь пророком, если бы мне было суждено умереть с голоду, я и то не стал бы работать так, как вы.
Гнев его был столь дик, что люди невольно смеялись, несмотря на опасный оборот, который приняла эта история. Шейх Али выпрямился во весь рост и торжественно изрек:
— Итак, считаю до десяти, и если стола не будет, отрекаюсь и преступаю заветы.
Было ясно, что шейх воистину исполнит угрозу и тогда произойдет непоправимое.
Шейх снова принялся считать. Лоб его весь лоснился от пота. Полуденный зной сделался невыносимым. В толпе даже стали перешептываться, что кара господня, возможно, уже начала действовать, и эта ужасная жара не иначе как провозвестие чудовищного пожара, который спалит всю пшеницу, скошенную и нескошенную.
Кто-то снова рискнул предложить:
— Принесите ему чего-нибудь поесть. Может, он уймется.
Очевидно, эти слова дошли до ушей шейха Али, хотя он и продолжал считать громким голосом. Он обернулся к толпе и сказал:
— Чего поесть, цыганский вы табор? Вашего заплесневелого хлеба и старого червивого сыра? Это вы называете едой? Клянусь верой, не замолчу, покуда не увижу вот здесь, на этом самом месте, стол и на нем пару цыплят.