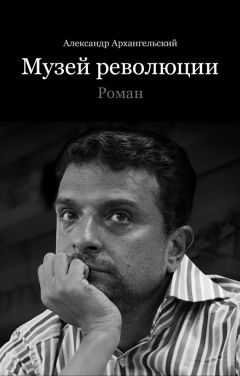Тата лежала на спине, подхватив живот руками. Глаза закрыты, губы сжаты, голова закинута.
На секунду ему показалось, что обоняние вернулось, и он слышит кисловатый запах металлической стружки.
— Тат, эй, ты чего?
Молчок.
— Тата?
Ни звука, ни движения. И этот странный — то ли запах, то ли фантом. Он подошел поближе. У Таты обморок? А это что за липкое пятно? Кровотечение? В больницу? Тата, Тата!
Она очнулась и сказала, слабо и спокойно, без обиды:
— Слушай, Паша. Мне, кажется, нехорошо. Придется вызвать скорую. Поищи в столе медицинскую карту и полис. И подай, пожалуйста, трусы и балахончик.
Пощупала себя внизу живота, посмотрела на пальцы, добавила — и вновь без паники, почти что равнодушно:
— И мокрое полотенце.
А потом был ужас. Ужас. Ужас. Гробик, так похожий на обувную коробку. И Татина жестокая болезнь.
7Тата поскреблась в кабинет, предупреждая: Паш, встань, задерни штору.
Вошла в махровом охристом халате, утренняя, свежая; даже то, что бледная — красиво. Вкатила на милой советской тележке завтрак. Прозрачный чайник с густо-красным крепким чаем, его любимая бадейка, пузатая, объемом в два стакана, желто-белый, как в детстве, омлет. На тарелочке с синей потертой каймой лежали таблетки, похожие на канареечные зерна.
— Поклевать принесла? Смотри, избалуюсь.
— А ты и так, мой милый, избалован.
Тата присела на край кровати, завернув простыню: аккуратистка!
— Но я тебя за это и люблю. Знаешь, Паш, не обижайся, но я даже рада была, что ты свалился — ешь, ешь давай, еще чайку подлить? — как тебя еще посадишь на привязь? А сейчас вот поправляешься, и хорошо, но жалко. Скоро опять усвистаешь… усвищешь… как правильно сказать?
— Скажи — отчалишь, не ошибешься, — ответил Павел с неприлично набитым ртом. Омлет был очень вкусный, воздушный, при этом упругий, просто лучше не придумаешь. — С чего это ты вдруг сентиментальничаешь? Вроде раньше так не было, а?
— Сама не знаю. Люди меняются, верно? Может, засиделась взаперти, как собачка на привязи. Кстати, а не хочешь завести собачку?
— А гулять кто будет? Особенно днем, на свету?
— Да, ты прав.
И Татьяна увлеченно начала рассказывать о каком-то смутном сне, приснившемся ей этой ночью.
Вроде живешь с человеком годами, выучил его наизусть. Тата только начинает говорить, а уже ясно, к чему она ведет. В магазине можно даже не гадать, в каких отделах застрянет, какие обойдет стороной. Ей нравятся тугие свитера, домашние толстые кофты. А брюки в обтяжку не нравятся. Ей действует на нервы, когда он слишком низко наклоняется к тарелке и громко хлюпает. Зато она довольна тем, что у него такие узкие очки. Вот если бы они вдруг были круглые и толстые, в роговой оправе, это был бы настоящий ужас. Она не может пройти мимо грязи, но только если эта грязь перед глазами; будет часами отдраивать каждое пятнышко. А под кроватью пыль сбивается в комки, и они на сквозняке гоняют друг за другом, как невесомые мыши…
— Обычно сны дурацкие, а этот какой-то другой, после него даже хочется плакать… Да ты меня совсем не слушаешь?
— Ты чего?! Конечно, слушаю. А сахару, прости, не принесешь? Я запомнил, где ты остановилась, честно.
— В смысле, напился-наелся, жена, убери посуду, исповедь окончена? Заходите к нам на огонек? Таблетки выпей.
— Зачем ты так? Я ничего такого не имел в виду.
— Ладно, тяжелый больной. Прими антиеботик, и бифидобактерии не забудь. Давай сюда стакан. Кстати, тебе с нарочным доставили тяжеленную коробочку. На ней почему-то написано «Приглашение». Принести?
— Валяй, конечно.
На тонком металлическом листочке, немного темнее, чем сталь, но гораздо светлее титана, было выгравировано:
Многоуважаемый господин
Саларьев,
имею честь пригласить Вас
на торжества
по случаю
15-летнего юбилея
обновленного Торинского металлургического комбината.
Торжества состоятся в г. Торинске, 14 марта с. г.
Председатель Наблюдательного Совета
М. Х. Ройтман
RVSP. Стиль Black tie.
К металлической пластине прилагалось письмо на бумаге, рифленой, небрежно-желтоватой, с водяными знаками; Юлик дружески, но в то же время чуть начальственно писал, что рад будет свидеться, на приеме покажут их демо-ролик, надо бы приехать дня за два до вылета, все прогнать еще раз; кстати, полетим на ройтмановском самолете.
Павел бросил приглашение на ящик с фотографиями; из-за внеплановой болезни отвезти в Приютино наследство дяди Коли у него не получилось, и пришлось пристроить обе коробки в кабинете. Забыв про слабость, бросился к компьютеру, срочно вызвать Шачнева по скайпу; тот, видимо, ушел из кабинета — и на скайповский звонок не отвечал.
Тата стояла в дверях, маленькая, невеселая.
Что, опять улетаешь?
Опять.
Когда.
В Москве надо быть числа четырнадцатого.
Значит, успеешь поправиться. Можешь занавески отдернуть, пока.
8Воздух был холодным и наждачно жестким. Павел процарапывался сквозь него, щеки горели. Но лучше бежать по сырому морозу, чем бесполезно дергаться в машине: чтоб вас, снова прозевал момент, еще бы пять минут назад решился вылезти, и, глядишь, успел бы; будет здесь когда-нибудь зеленый? или Маяковского забита, шансов ноль?
Он вошел в свое купе заранее, удобно устроился в кресле, достал дорожный ноутбук, наушнички, отправил Тате смс, доложившись о прибытии.
Успел.
С Богом!
Как мало человеку надо. Настроение отличное; во вторник утром вылетать в Торинск, до сих пор он дальше Красноярска не был, любопытно. До этого они успеют поработать с Юликом, немного дотянут программу, применят к реальным торинским условиям. А вчера он созвонился с дедушкой, это тоже большая удача: Теодор мобильники не жаловал, или оставлял в гостинице, или забывал включить. При этом Деду в голову не приходило, что можно вечером вернуться, посмотреть, кто днем звонил. Он был выше всякой телефонной суеты, как был выше Интернета, в котором ничего не понимал и (по крайней мере, на словах) гордился этим.
— Чтобы по клавишам стукать, у меня есть секретарша. Государство ей исправно платит, а я доплачиваю. Галина Антоновна, распечатай, прошу тебя, всех писем, кто что писал, я прочту.
Бесполезно набирая дедов номер, Павел бормотал себе под нос: да возьми же ты, зараза, телефон! Он был готов уже махнуть рукой на все и передать через Печонова, что уезжает, как вдруг звонки оборвались и в трубке зазвучал тяжеловесный голос.
— Шомер слушает. А, Павел Савельевич. Здравствуй, мой дорогой. Ты что же исчезаешь так надолго? Заболел? Сочувствую. Но мог бы, вообще-то говоря, и сообшчить.
(Тебе, пожалуй, сообшчишь).
— Как идут дела? — спросил сам себя Теодор Каземирович. — Дела идут. Завтра посещаю важного начальника, посмотрим, что из этого получится. — Интонации сгустились, Шомер явно приосанился, расправил плечи; Павел знает наизусть его повадки. — Воскресенье проведу в Москве, имеются еще кое-какие планы, а в понедельник на рабочем месте. И надо бы нам повидаться. Приглашаю тебя пообедать.
— Теодор Казимирыч, родной, в понедельник никак не могу!
— То есть? Уточните, пожалуйста, — надулся обидчивый Шомер и перешел на «вы».
— Мне во вторник утром на московский самолет, Ройтман продает свой комбинат, а я делал ему виртуальный музей… зато я в Москве в воскресенье… — Павел бормотал, как школьник у классной доски, но Теодор дослушивать не стал и перебил:
— Что я слышу? Ройтман? Тот самый, который? Вы знакомы? Павел, что же вы молчали?
(Как же, молчал; вы, дедушка, стареете, становитесь весьма забывчивы.)
— Вы должны… ты, Пашенька, просто обязан рассказать ему о наших бедах.
— Да какое ему дело до Приютина?
— Не скажи, он такой влиятельный. Пусть этим позвонит, которые сафари. Или пусть твой Ройтман выкупит усадебные земли и подарит их обратно нам! А? ты понимаешь, мой дорогой? обратно.
— Понимаю, — с неохотой согласился Павел.
— Значит, поговоришь?
— Значит, да.
Тем временем в купе вметнулась девушка. Вслед за девушкой, как верный пес, через порожец перевалился безразмерный чемодан. Она кинула на Павла секундный взгляд: этот не поможет? тут же отвела глаза: нет, не годится, коротышка.
Павел твердо улыбнулся. Кивнул на чемодан; девушка приязненно пожала плечами: дескать, как считаете возможным, но буду благодарна, если выйдет. Не знаете вы, девушка, что у людей коротенького роста отработаны приемы верхнего броска, иначе им не выжить в мире гулливеров.
Павел закинул тяжеленный чемодан на полку; на лице попутчицы отобразился интерес. Она забралась в дорожное кресло с ногами, скинула туфли, стала похожа на девочку-подростка, открывшую настежь окно и усевшуюся на подоконнике в ожидании большой любви.