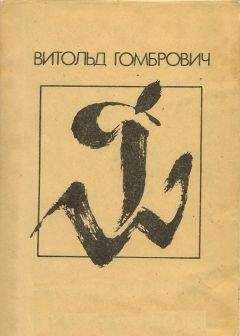— Что?!
Такое мягкое «что», но той мягкости, которая обладает способностью резко измениться в любой момент. Последняя стадия, когда сила предоставляет передышку. Знаю, звучит шаблонно, но думаешь о затишье перед бурей. Я обрету миллион мужских импульсов в моей грядущей агрессивности; в конце концов, мне показалось, я не один на этой земле, мне предстояло резать по живому. В тишине острее чувствуешь свое одиночество, именно так. Чтобы помириться, нужно, по крайней мере, быть одному.
Женщины порочны. Ими всегда владеют эмоции. Это правда, я расчувствовался. Ее тело, ее рот, обещание ее возвращения в мою жизнь лишили меня ясности мышления. Глаза открыты, удар под дых, а мне все равно хочется верить в ее пусть даже частичное возвращение. Не могла же она разыграть такие сантименты только ради вечера с Конрадом… ну вот, достаточно было подумать о Конраде, чтобы понять, насколько очевидно ее вероломство. Но кто не предал бы мать родную ради того, чтобы провести с ним хоть короткое время? Правда, Тереза перешла все границы. Я был взбешен. Она воспользовалась моей слабостью, моей тайной любовью к ней. Даже речи быть не могло, что она уведет у меня Конрада. Только через мой труп. Ярость душила меня, казалось, что она не оставит меня и post mortem.[15] Играя таким образом с моими чувствами, она не только убила мою к ней любовь, но и придала нашей истории, причем неожиданно, статус незыблемой законности. И если прощение довольствуется настоящим, то месть никогда не может насытиться.
Я резко оттолкнул ее, поскольку в результате влепил ей пощечину. Красный след на ее щеке напомнил мне о том времени, когда она, стерва, была застенчивой; я обуздал свою сентиментальность, поборол желание извиниться. Я впервые в жизни ударил человека, того человека, благодаря которому я тоже впервые испытал любовь. Она не поскупилась на ответные действия, мимоходом оцарапав меня своим кольцом. Кольцом, которое я же и подарил ей, недооценив его истинную прочность. Я бросился на нее, изо всех сил вцепившись ей в волосы, и в ярости, которую априори не мог рассчитать, ударил ее головой о паркет.
— Никогда… слышишь ты! Никогда не получишь Конрада.
Мы предались животным страстям наших первых чувств. Я даже испытывал ностальгическое удовольствие при этом суде Линча. Мне казалось естественным, что для снятия напряжения мы принялись колотить друг друга. Чем сильнее я ее колотил, тем больше мне казалось, что я произношу запрятанные где то глубоко слова, освобождаюсь от сложностей, разъедающих нашу незамысловатую историю. Наконец то мы хоть в чем то поладили.
Я убежден, что она была способна просчитать продолжительность моей вспышки, поскольку по удивительному стечению обстоятельств именно в тот момент, когда ей досталось от меня больше всего, Конрад открыл дверь. Он кинулся на меня, издавая дикие крики, — малыш не выносил жестокости. Предполагается, что мужчины любят друг друга. Когда я говорю «не выносил», нужно правильно понимать смысл этого слова; Конрад дрожал всем телом, как пугало, на которое налетела стая ворон; его тело как бы увеличилось в размерах, он принимал угрожающие позы. Зрелище насилия, казалось, преобразило его, повергнув в состояние, пограничное между приступом эпилепсии и ужасающим осознанием того, что все на свете не любят друг друга. Иначе говоря, ускоренное протекание кризиса подросткового возраста, молниеносный переход от детства к зрелости. Точно как в фильмах, когда герои путешествуют по времени, они ссорятся и их лица выражают возбуждение; насилие перенесло его в такие края, где ему было невыносимо находиться, насилие совершало насилие над ним, поскольку не соответствовало целостности его мироощущения. Его мир вращался на волне религии и чистоты, прощение было основой всего, а прощение — род забвения, оно поднималось над насилием, уничтожая его. Таким образом, каждое столкновение с насилием сталкивало его с чем то незнакомым, то есть забытым, и зрелость, что есть не что иное, как приятие превратностей судьбы, никогда не могла прийти к нему. Нельзя продолжить историю, если забыто начало.
По лбу Терезы потекли невесть откуда взявшиеся капли крови, она явно перебарщивала, изображая героиню итальянских мыльных опер. Конрад пронзил меня взглядом, и этот взгляд, столь несвойственный Конраду, буквально едва не испепелил меня. Как будто мы ничего не пережили вместе, мне показалось, что все кончено. Я был Иудой. Слова, призванные защитить меня, превращались в слова для истории, слова прощания.
— Мы играли… — пробормотал я.
Этот ответ был достоин моего гения, и, разумеется, я полностью осознал его смысл только после того, как слова уже были произнесены. Никто вообще не был бы способен произнести безукоризненно верные слова, если знать заранее, какие слова верны, а какие нет, во всяком случае это был в точности мой случай. Здесь слово «играли» снимало элемент насилия, перенося нас в мир невсамделишного. В детский мир, где Конрад был способен понять меня, а главное, вновь полюбить. Однако мой гений был не так уж гениален, поскольку мне потребовалась помощь моего злейшего врага; мой гений даже сделался посмешищем, поскольку я был вынужден закатывать глаза, униженно моля о сохранении жизни или, по крайней мере, об отсрочке. Я бы умер, если бы Конрад бросил меня. Я умолял Терезу, я рисковал потерять все. В этой напряженной тишине, в преддверии комы, я поставил на кон свою жизнь. В любой момент она могла вскочить и закричать: «Неправда, мы не играли, ты что, не видел, как он бил меня насмерть?» Но ее встревожило поведение Конрада. В конце концов именно так я интерпретировал ее реакцию, она не хотела обидеть ребенка. Поэтому она согласилась, несмотря на то что еще совсем недавно я бил ее смертным боем:
— Да да, мы играли.
Вердикт последовал незамедлительно. Конрад расхохотался, полностью забыв про свой недавний ужас. Мы были почти счастливы. Но Тереза все же взяла реванш. Я оставался ее должником, поскольку Конрад не отказался от меня. Я был в ее власти, должен был отдать в ее распоряжение весь вечер, тогда как еще накануне мы с ним спокойно проводили время вдвоем. Спокойно, спокойно любили друг друга.
— Знаешь, Конрад, мы играли, чтобы решить, кто будет обедать с тобой сегодня вечером, и Тереза выиграла!
Мы были квиты.
Я отправил Мартинеса домой, сказав, что здесь нет ничего интересного. Я пребывал не в том счастливом расположении духа, чтобы интересоваться его историей с усами; чужие дела нас интересуют, только когда мы счастливы. Эглантина, не желая поверить, что Конрада нет дома, безучастно сидела в гостиной. Я видел, как позже она принялась бродить по комнате, стараясь придать себе этот безразличный вид, словно бьющее в глаза отсутствие Конрада не свидетельствует о том, что его нет. Она упорно искала его. Я был не в том настроении, чтобы сказать ей, насколько запущена моя прекрасная квартира; когда мы счастливы, мы можем проявлять недовольство своими подчиненными. Я ничего не слышал об Эдуаре после той ночи, когда мы напились, значит, со вчерашнего дня. Но что я знал о проходящем времени? Какое значение имело ласковое тиканье секунд в отсутствие Конрада? Можно кутаться в марте или мерзнуть начиная уже с сентября, честно говоря, погода, времена года, минуты — все это чепуха на постном масле, поскольку я чувствовал себя страшно одиноким. Жизнь без Конрада стала явным извращением, научной ошибкой. Как будто один плюс один оставалось равно одному. А это было неправильно. Когда жизнь приобретает оборот псевдоматематического действия, нужно семь раз отмерить, чтобы не сморозить глупость, ну что ж, ничего не поделать, что то разладилось. Цифры перепутались, порядок нарушен, жизнь пошла под откос.
Тогда то я и подумал о том, чтобы выставить отсюда Терезу. Все изменилось; и если вначале я хотел с ней помириться, то теперь главным было сохранить Конрада. И бесспорно одно — она перешла к угрозам. Я не понимал, почему я должен был отдать ей своего нового жильца, хотя, как владелец квартиры, имел право первенства. Я запрыгал от радости, когда эта простая мысль пришла мне в голову, словно избавив меня от мучившей занозы. Я немного задержался на этом: женщина, которую я любил восемь лет, превратилась для меня в впившуюся в ногу занозу. Что я должен был извлечь из этого сравнения? Разве годы уменьшают женщину в размере? Честно говоря, нужно было поторапливаться и сложить ее чемоданы, пока она не вернется. И хоть я не сомневался, что у меня впереди еще много времени, она самым наглым образом воспользуется ужином наедине с Конрадом, заграбастает каждое украденное у меня мгновение. Итак, я вошел в ее комнату с твердым намерением упаковать ее пожитки, адье, чао, финито. Подумать только, забыл добавить мое любимое бай бай… Прежде чем открыть шкаф, я остановил взгляд на картинах, написанных Терезой. Казалось, все они были заполнены яйцами… Все эти полотна изображали яйца в движении. Яйца в повседневной жизни, яйца за рулем, яйца в кино, яйца парами, яйца в омлете. Я не стал углубляться в художественный анализ, поскольку считал, что все это ужасно, полное отсутствие таланта. Короче, я немедленно счел своим долгом выставить ее отсюда. Я не намерен способствовать падению Искусства или еще чему похуже.