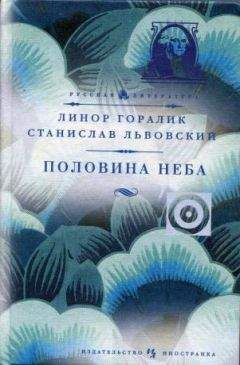Важной составляющей ситуации, было отношение Маши к Погорелову; сейчас бы я назвал это так: она не поощряла его ничем. Если он хотел подать ей пальто — она просовывала руки в рукава; если он просил разрешения перенести из кабинета в кабинет ее сумку — она милостиво давала такое разрешение, если он утром Восьмого марта становился перед ней на одно колено в школьном коридоре и вручал ей веточку мимозы — она принимала ее, но ограничивалась сдержанным «Спасибо». Класс следил за развитием ситуации вот уже два месяца, умирая от любопытства и исходя слюной, и главной солью происходящего был, несомненно, тот факт, что наши-то с Машей отношения совершенно не изменились — по крайней мере, для стороннего наблюдателя. Мы по-прежнему сидели за одной партой, вместе дежурили по классу, вместе ходили домой и выручали друг друга, когда надо было отмазываться от учителей. Между собой же мы просто никогда не говорили о Погорелове, ни разу, как бы молчаливо решив считать его курьезом, смешной и странной фигурой, не имеющей никакого отношения к нашей дружбе.
И все-таки это не было правдой до конца. Например, я не мог не заметить, что Маша расцвела с начла этой истории, что она стала, кажется, подкрашивать ресницы, что в один прекрасный понедельник она пришла в школу в юбке, укороченной как минимум на пять сантиметров. Сам же я почему-то все время раздражался и все чаще — в её адрес: меня злило, если она опаздывала хотя бы на пять минут, я бесился, когда она долго не подходила к телефону и обижался, если на лабораторной она садилась не со мной, а с кем-нибудь из девчонок. Но, странное дело, — я никогда не выражал свои претензии вслух и даже в некоторой мере делал вид, что Маша мне, по большому счету, не очень-то и нужна. При этом я вдруг, ни с того, ни с сего начал думать, что мы с Машей ни разу не целовались. Я целовался уже несколько раз, и все с разными девочками, одна из них, Марина, дочь маминой сотрудницы, провела со мной целых три часа в тягучих, медленных, обрывающих сердце поцелуях на чьем-то дне рождения, но мысль целоваться с Машкой до возникновения казуса Погорелова ни разу не приходила мне в голову — а теперь вдруг начала приходить. Я с изумлением обнаружил, что представляю себе этот момент в мельчайших подробностях — мы стоим в каком-то полутемном месте, не то в сарае, не то просто в подъезде, у меня в ногах валяется мой портфель и сильно мешает мне стать поудобнее, я держу Машу одной рукой за талию, а другой — за шею, как меня научила все та же волоокая Марина, и жду почему-то не прикосновения ее губ к моим, а прикосновения ее челки к моему лбу. Эти мысли смущали меня, Машка была мне вроде сестры, нас даже не дразнили «женихом и невестой» — но чем чаще совершал свои эскапады мой «достойный враг» Погорелов, тем чаще я замечал, что смотрю на Машку какими-то новыми глазами. До сих пор Погорелов ни разу не приглашал ее на свидания, но в прошлую пятницу он догнал нас у калитки, обогнул и преградил нам дорогу. Он слегка запыхался, лицо его было бледно, но взгляд пылал решимостью. «Мария Сергеевна,» — сказал он, несколько теряя дыхание, — «Разрешите пригласить Вас в кино.» На секунду у меня почему-то возникла неожиданная мысль отбросить китайские церемонии и просто задвинуть ему между глаз, но тут Маша посмотрела на него со спокойной грустью (я вспоминаю этот взгляд до сих пор, и чем больше лет проходит с той пятницы, тем больше я узнаю о женщинах, просто вспоминая этот самый взгляд) и сказала: «Нас — в кино? Хорошо, мы придем». И мы пришли, и до сеанса оставалось пятнадцать минут, а мы стояли в буфете, и Погорелов платил за всех.
Был понедельник, дневной сеанс, а иначе бы мы, может, и билетов взять не смогли, потому что фильм был американский и только вышел в прокат. На нарисованной от руки афише было строгое ястребиное лицо мужчины с черными волосами и дальше, в глубине, лицо белобрысенького мальчика. Ниже воинственными буквами было написано: «Крамер против Крамера», и мелким шрифтом — «драма». Я предположил, что это фильм про боксеров, а маленький мальчик взят кем-нибудь из них в заложники и за него требуют выкуп. Маша высказалась в том плане, что это про двух братьев-шпионов, одного нашего, а другого ихнего. Было совершенно непонятно, как такое могло случиться с братьями. Упорно глядящий мимо меня Погорелов выдвинул версию, что это фильм про раздвоение личности, немедленно взбесив меня своим умничаньем.
Сидения в кинотеатрах обычно были бархатными, наверное, бархатными они были и в «Орбите», я не запомнил, а теперь уже не проверишь, там все перестроено десять раз, и на месте, где Погорелов восемью монетками заплатил за три молочных коктейля, стоят игральные автоматы — кидаешь монетку, три, пять, восемь, двадцать, и если тебе повезет, то монеты, вброшенные твоими менее терпеливыми предшественниками, просыплются на тебя увесистым серебряным дождем. Один раз я связался с подобным автоматом где-то в районе метро Черкизовская, года два или три назад, я был очень плох, пьян, голоден — не от нехватки денег, а от того, что противно было есть, меня оставила женщина, перед которой я был совершенно ни в чем не виноват. Оставила так: вошла утром в спальню, сказала: я ухожу от тебя и уезжаю из города, и через десять минут ушла, не объяснив мне совершенно ничего, я больше никогда ее не видел и не слышал, как если бы она умерла, и до сих пор не знаю, что произошло. В тот вечер я сам хотел умереть и связался с этим дрянным автоматом, скормил ему сто рублей монетами по пять, а потом в ярости обменял по пять пятисотенную бумажку — и на двадцатой или тридцатой монете ненасытная машина наконец сработала, вся эта куча пятаков стала моей, и в ней набралось едва ли не меньше пятидесяти долларов, и эта мизерная, издевательская подачка судьбы привела меня в состояние глубокого горя, — как если бы мне был дан недобрый знак о том, что уже свершилось и продолжало свершаться и было неумолимо.
Я почему-то не вспомнил в тот момент о начале девяностых, когда пятьдесят долларов показались бы мне манной небесной, и уж конечно не вспомнил, как директор рекламного агентства сказал своему новому работнику, мистеру Крамеру: «Вы отдаете себе отчет, что ваша зарплата будет составлять меньше сорока тысяч долларов в год?» — а у меня отвисла челюсть, я уже понимал, что такое доллар, но не понимал, что жить на сорок тысяч в год с ребенком было не слишком сладко даже в 1979 году, когда снимался этот фильм, самый душераздирающий фильм из всех, какие мне доводилось видеть. Сорок тысяч в год — это казалось мне невероятным богатством, я подумал: господи, да у него столько бабок, он может купить самолет и улететь со своим сыном к черту на рога, куда-нибудь в Аргентину, где их никто не найдет, и всю жизнь валяться на пляже, наслаждаясь морем и песком и смеясь над этой безжалостной сукой, я сам бы просто спустил ее с лестницы, если бы она бросила меня, а потом пришла отбирать моего ребенка. Я и сейчас неплохо помню фильм, но совершенно забыл, чем он кончается; так или иначе, я понимаю, что это фильм о трех людях, — двух больших и одном маленьком — попавших в ужасную ситуацию, в переделку, какой не пожелаешь и врагу.
Тогда же я чувствовал себя маленьким мальчиком, которого бросила мама, и немолодым мужчиной, чья жена в один прекрасный вечер сказала: я ухожу от тебя и уезжаю из города, и через десять минут ушла, не объяснив ему совершенно ничего. Я с ужасом наблюдал правосудие, в котором какие-то безжалостные люди бессовестно манипулировали словами и отбирали у мужчины сына, а у ребенка отца. Я не понимал многих мелких деталей, особенно юридического толка, но помню, как сидел, ощущая ладонями мерзкий бархат в рубчик, который до сих пор не переношу на ощупь, и впервые в жизни ощущал хрупкость мира, усиленную неестественными интонациями дублеров и не очень хорошим качеством пленки, из-за которого все казалось ломким и готовым надорваться в любой момент. Я впервые в жизни чувствовал, как почва уходит у меня из под ног: я не верил, что меня могут бросить родители, но во время этого сеанса мне, кажется, впервые в жизни пришла в голову мысль, что они могут умереть. Я вдруг представил себе, что с каждым, кого я знаю, меня связывают тонкие бумажные гирлянды, вроде тех, какими Крамер и Билли украшали елку, и стоит неловко дернуть, как с треском порвется бумажное колечко, связь распадется и я останусь один в холодном пустом космосе, — и, главное, ничто не может спасти меня от этого, потому что как бы бережно я ни относился к этой хрупкой гирлянде, ее могут дернуть с другого конца — и чем сильнее я буду цепляться за нашу связь, тем скорее порвется цепочка.
Мне казалось, что так, как я сопереживал Крамеру, я сопереживал только в детстве — скажем, Бременским Музыкантами или уходящему от преследований капитану Врунгелю, и когда Крамер и Крамер заплакали, обнявшись (ага, оказывается, я помню, чем заканчивается фильм, но с какой неохотой!) — я с ужасом обнаружил, что сижу с полными глазами слез. Я попытался закинуть голову, но они уже текли вниз, потом я попытался проглотить их, но от них только сделалось солоно во рту, и тут поползли титры и свет начал зажигаться, я вскочил и стремительно повернулся спиной к Маше и Погорелову, который незамедлительно спросил: «Анцелевич, Вам плохо?» — я ломанулся в вестибюль и оттуда в туалет и там провел минут пятнадцать, остужая лицо под ломкой струйкой воды из крана, и когда я вышел, я увидел, как Маша дотрагивается до рукава синей Погореловской куртки — и меня скрутило, я как-то забыл весь свой пафос, и сложность наших «высоких отношений» с Погореловым, и мою «не-ревность», и вообще всю эту бессмысленную мишуру, я подскочил к ним и схватил Машу за руку и поволок за собой, мы вылетели через служебный ход кинотеатра, прорвавшись сквозь грозное подвывающее «Кудыыы?» какой-то тетки, и там, на заднем дворе, я орал на Машу, что она не перезвонила мне вчера вечером, что она не вернула мне мою тетрадь по физике, что я не буду с ней больше дружить, а она может ходить с кем хочет за ручку и пусть хоть целуется со всякими мудаками, у меня текли слезы, но я ничего не мог с ними сделать, она рванулась уйти раз, и другой, и третий, я хватал ее за рукав и разворачивал к себе, я так орал, что на нас начала кричать всё та же тетка, мне было наплевать, я повторял одни и те же фразы, даже скручиваясь от слез и крика, а Маша уже стояла и никуда не шла, а потом, когда я просто взвыл и уткнулся лицом в собственный рукав, она обняла меня обеими руками, как ребёнка, и в этой нелепой и неудобной позе мы постояли некоторое время, её чёлка щекотала мне лоб и я, кажется, в первый раз плакал на плече у женщины, а всего таких разов в моей жизни было два.