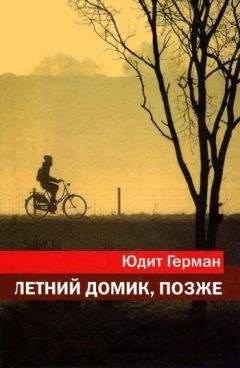В пятницу ночью в Канице дотла сгорел бывший помещичий дом. Хозяин, берлинец, который купил построенный в восемнадцатом веке дом и привел его в порядок, с тех пор считается пропавшим. Причина пожара еще точно не выяснена, полиция не исключает поджога.
Я прочитала это три раза. Фальк задвигался. Я переводила взгляд с газетной заметки на почерк Штейна на конверте и снова на заметку. Судя по штемпелю, письмо было отправлено из Штральзунда. Фальк проснулся, посмотрел на меня отрешенно, потом схватил меня за запястье и спросил, как дурак: «Что это?»
Я убрала руку, встала с кровати и сказала: «Ничего».
Я пошла на кухню и десять минут тупо простояла у плиты. Тикали часы на стене. Я побежала в другую комнату, выдвинула ящик из письменного стола и положила конверт туда, где лежали открытки и связка ключей. «Позже», — подумала я.
Художник очень маленького роста. Мари сама не знает, в своем ли она уме, уж слишком художник маленького роста; она думает: у тебя не все дома, она имеет в виду себя, а может быть, это потому что осень, потому что начинается хорошо знакомое беспокойство, озноб в спине, дождь?
Художник в самом деле слишком мал. На три головы ниже, чем Мари. Он знаменит, по крайней мере в Берлине его знают все, он творит с помощью компьютера, он написал две книги, по вечерам он иногда выступает по радио. Художник к тому же некрасив. У него маленькая пролетарская голова, он очень смуглый, некоторые говорят, что у него есть примесь испанской крови. Рот невероятно тонкий. Рта нет. Глаза, правда, красивые, совершенно черные и большие, во время разговора он так держит руку перед лицом, что видны только эти глаза. Художник ужасно одет. На нем драные джинсы — детского размера, думает Мари, — вечно на нем этот зеленый пиджак, вечно эти кеды. На левом запястье черная кожаная полоска. Некоторые люди говорят, что художник, тем не менее, невероятно умен.
Мари что-то нужно от художника. Что ей от него нужно, она не знает. Может быть, блеск его славы. Может быть, ей хочется выглядеть еще красивее рядом с таким уродливым человеком. Может быть, это жажда разрушения, ей хочется вторжения в чью-то мнимую недоступность. Мари спрашивает себя всерьез, все ли у нее в порядке с головой. Не выглядят ли они вместе смешно? Мари всегда хотела быть только с красивыми людьми. Это ужасно, когда нужно смотреть на мужчину сверху вниз. Страшно представить себе, как это должно быть, когда… И все же Мари хочет.
В первый же вечер они целуются. Или лучше — Мари целует художника. Он предстает перед ней на празднике, среди всех берлинских знаменитостей, Мари не может решить, какую из знаменитостей она в этот вечер должна одарить своим долгим, долгим взглядом в первую очередь. Художник предлагает себя. Он стоит перед ней, сверкая черными красивыми глазами, и Мари, видевшая его по телевизору, сразу узнает его. Он непоколебимо льет водку в ее стакан и задает трудные вопросы. Что для тебя означает быть счастливой. Ты уже предавала кого-то. Неприятно ли тебе что-то делать, если причины твоих действий внешние.
Мари пьет водку, медлит, говорит: счастье — это всегда момент до того. В секунду до момента, в котором я, собственно, и должна бы быть счастлива, в эту секунду я счастлива и не знаю об этом. Я уже многих предавала, я думаю. И я считаю, что это прекрасно, если причины моих действий внешние.
Художник неподвижно смотрит на нее. В ответ Мари смотрит на художника, это она умеет делать. Люди, стоящие возле них, ощущают какое-то беспокойство, художник действительно слишком мал и некрасив. Скорее из упрямства, чем из солидарности, наклоняется Мари, берет голову художника двумя руками и целует его в губы. Он, естественно, целует ее. После этого Мари дает ему номер телефона и уходит и только снаружи, вдохнув холодный, чистый ночной воздух, чувствует, как сильно она на самом деле пьяна.
Художник ждет три дня, а потом звонит. Он действительно — ждал? Мари это допускает. Они проводят вечер в баре, где Мари мерзнет и чувствует недомогание, потому что художник непрерывно на нее смотрит и не хочет разговаривать. В другой раз они утром гуляют по парку, на художнике шикарные очки от солнца, Мари нравится. Они полдня просиживают в кафе, Мари немного рассказывает о себе, но в основном молчит, художник сказал, что ему не нравятся разговоры в метаплоскости.
Мари не знает, что такое метаплоскость. Идя на встречу с ним, она каждый раз надевает одни и те же простенькие туфельки, других у нее нет. Различие между ними очень большое, Мари переживает это болезненно. Осень. В комнату Мари сквозь открытое окно залетают умирающие осы. Мари мерзнет, носит перчатки, дни становятся короткими, она быстро устает. Иногда она вскидывает голову и пытается игриво рассмеяться. Получается не так. Художник спрашивает, не хочет ли она как-нибудь поехать к Балтийскому морю. Мари говорит: Да, думает о таких местах, как Альбек, Фишланд и Гиддензее, о длинном, белом зимнем пляже, о раковинах и о неподвижном море. О художнике она не думает. Она стоит у окна, в руке чашка с холодным чаем, она проносит сигарету мимо рта, оставляет открытым кран, теряет связку ключей. Так и есть: художник звонит и говорит: я люблю тебя. Мари приседает на корточки, зажав трубку между головой и плечом, смотрит в зеркало. Медленно закрывает и открывает глаза. Художник больше ничего не говорит, но она слышит, как он дышит, тихо, размеренно, спокойно. Он не взволнован. Мари тоже. Она говорит: Да. Ее удивляет, как все это быстро. Художник кладет трубку.
Когда Мари думает о его глазах, у нее тянет спину. У него действительно красивые глаза. Она не ждет его звонка, она знает, что он позвонит. Кажется, художник вполне доволен своим карликовым ростом. Он его подчеркивает, совершает вертлявые, клоунские движения, идет, как оловянный солдатик, становится посреди улицы на руки, корчит рожи, фокусничая, засовывает деньги в ухо и вынимает их из носа. После поцелуя на празднике он ни разу не притрагивался к Мари. И она к нему тоже. Когда они прощаются, он подносит руку к ее руке, и в последний момент убирает, не прикасаясь. Что в твоих глазах, когда ты смотришь на меня таким долгим взглядом, спрашивает он, Мари отвечает: близость, агрессивность. Сексуальность, согласие. Она не знает, правда ли это. Художник не умеет улыбаться. Он может только сужать глаза до тонких щелочек и поднимать уголки рта. Мари это не кажется убедительным, она говорит ему об этом, в ее голосе слышен триумф. Может быть, говорит художник — он впервые выглядит уязвленным.
Однажды ночью в кафе, Мари, будучи пьяна, спрашивает, не думает ли он о том, чтобы с ней переспать. Она знает, что это неправильно, но вопрос, который она так давно хотела задать, уже задан. Художник говорит: Уверяю тебя, были женщины, с которыми я был гораздо настойчивее. Мари возмущена, она скрещивает руки на груди и решает больше вообще ничего не говорить. Художник пьет вино, курит, смотрит на нее, а потом говорит: Лучше, если ты сейчас уйдешь, и Мари едет на велосипеде домой, она очень рассержена.
Потом он звонит ей. Я не хочу, чтобы ты наблюдала за мной, говорит художник, готовый, однако, ее снова увидеть. Он напоминает Мари какого-то зверя. Зверька. Маленькая, черная, волосатая, жуткая обезьянка. Она ставит туфельки в шкаф, надевает сапоги на высоком каблуке и едет на велосипеде впервые к нему домой.
Художник открывает ей только после третьего звонка, на нем его кеды, его драные джинсы, его черный свитер. Он рассказывал Мари, что однажды купил сразу пятнадцать маленьких свитеров и покрасил их все черной краской. В квартире тепло. Удивительный порядок. Стены выкрашены оранжевой краской, огромное количество книг, компакт-дисков, пластинок. Хочешь чаю, спрашивает художник, да, говорит Мари и садится за его письменный стол. К стене над столом прикреплены почтовые открытки, комиксы из газет, фотографии, письма. Слои маленьких бумажек, одна на другой. Художник где-то на юге, с пухлощеким светловолосым ребенком на руках. Программки театров, критическая статья, тщательно вырезанная из газеты. Полоска фотографий для паспорта, художник, потому что слишком мал, снят сверху, на лбу белое пятнышко от сполоха вспышки. Предложение, напечатанное большими буквами на желтой бумаге: «Во времена предательств красивы ландшафты». Художник на кухне стучит чашками, Мари нервничает, кусает нижнюю губу, чувствует себя неуверенно. Она слышит приближающиеся шаги, оборачивается, пытается улыбнуться. Художник ставит чашки на стекло, покрывающее письменный стол, спрашивает: музыка? Мари пожимает плечами, смотрит в свою чашку, художник ставит диск. В динамиках раздается щелчок, издалека появляется голос Полли Джейн Харви — Is that all there is?[20] Депрессивная музыка, думает Мари и размышляет, не должна ли она сказать это вслух. Художник кружится по комнате, выглядит довольным собой и уверенным, он наблюдает за ней и делает смешное лицо. Мари откашливается. Художник говорит: немножко Интернета? Мари отвечает: я в этом ничего не понимаю, художник дружелюбно говорит: не имеет значения.