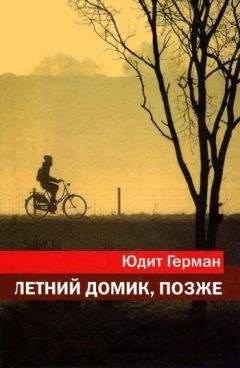Ворота, с которых Штейн попытался содрать табличку «Продается», упали с жалобным стоном. Мы поднялись по ступенькам, я остановилась, испуганная выражением лица Штейна, и увидела, как он исчез за плющом, обвивавшим веранду. Вскоре после этого из дома выпала оконная рама, и лихорадочное лицо Штейна, освещенное керосиновой лампой, показалось между зубцами разбитого стекла.
«Штейн! — закричала я. — Выходи! Он сейчас развалится!»
«Заходи! — крикнул он в ответ. — Это же мой дом!»
Я спросила себя, что с того, что это его дом, что это меняет. Я ступила на веранду. Доски закряхтели, плющ сразу проглотил весь свет, я с отвращением раздвинула его, после чего холодная, как лед, рука Штейна затянула меня в коридор. Я схватилась. Я схватилась за его руку, мне вдруг стало страшно, что я потеряю ее, а главное — свет его маленького керосинового фонарика; Штейн молчал, и я следовала за ним.
Он выталкивал ставни, они падали в сад, мы смотрели на последний дневной свет сквозь красные осколки стеклянных дверей. Связка ключей, оттягивавшая карман моей куртки, оказалась совершенно бесполезной, все двери были открыты, или их вообще больше не было. Штейн светил лампой, показывал, рассказывал, стоял передо мной, затаив дыхание, несколько раз он что-то хотел сказать, но не говорил, тянул меня дальше. Он поглаживал перила и щеколды, простукивал стены, сдирал обои, оттуда сыпалась штукатурка. Он говорил: «Ты видишь?» и «Ну, почувствуй» и «Ну как тебе?», мне не нужно было отвечать, он говорил сам с собой. На кухне он опустился на колени и стал руками очищать от грязи плитку, при этом он продолжал говорить сам с собой, я не отлипала от него ни на миг, и в то же время меня там уже как будто и не было. На стенах оставило следы подрастающее поколение — «Иди к ней и дай подняться твоему дракону. Я был тут. Матисс. No risk, по fun»,[18] — я сказала: «Иди к ней, дай подняться твоему дракону», Штейн резко повернулся ко мне и сказал: «Что?», я сказала: «Ничего». Он схватил меня за руку и вытолкнул за дверь, которую открыл ногой, мы оказались на маленькой лестнице, спускавшейся в сад. «Здесь».
Я сказала: «Что — здесь?»
«Да все!» — сказал Штейн, я его еще не видела таким дерзким.
«Озеро рядом, каштаны во дворе, три моргена земли, вы можете здесь выращивать вашу богом проклятую траву, и грибы, и коноплю, и любое дерьмо. Места хватит, понимаешь? Место есть. Я вам тут устрою салон с бильярдом и курительной комнатой, и каждому собственную комнату, и большой стол за домом для чертовой еды, и тогда можешь утром встать, и бежать к Одеру, и там нюхать свой кокаин, пока у тебя череп не лопнет», — он грубо повернул мою голову, так, чтобы я видела то, что простиралось за домом, было темно, я почти ничего не видела, меня начинало трясти.
Я сказала: «Штейн. Пожалуйста. Прекрати».
Он прекратил. Он молчал, мы смотрели друг на друга, мы часто дышали, почти в одном ритме. Он медленно поднес руку к моему лицу, я отклонила голову, он сказал: «Все в порядке. В порядке, в порядке. О'кей».
Я стояла неподвижно. Я не понимала. Я о чем-то догадывалась, но до понимания мне было еще далеко. Я была усталой и измученной, я думала об остальных, я немного злилась на них за то, что они оставили меня здесь одну, за то, что со мной никого не было — ни Кристианы, ни Анны, ни Гейнце, чтобы защитить меня от Штейна. Штейн пошаркал ногами и сказал: «Мне очень жаль».
Я сказала: «Ничего. Все нормально».
Он взял мою руку. Его рука была теперь теплой и мягкой, он сказал: «В общем, солнце за колокольней».
Он стряхнул со ступенек снег и предложил мне сесть. Я села. Мне было очень холодно. Я взяла зажженную сигарету, которую он мне протянул, закурила и стала смотреть на колокольню. Солнце уже спряталось. Я чувствовала что я должна сказать что-нибудь о будущем, что-нибудь оптимистическое. Я сказала: «Я бы срезала плющ на веранде. Летом. Иначе мы не сможем смотреть, если мы будем здесь пить вино».
Штейн сказал: «Сделаю».
Я была уверена, что он вообще не услышал, что я сказала. Он сидел рядом со мной, он выглядел усталым, он смотрел на белоснежную, холодную улицу; я думала о лете, о часах, которые мы провели в саду Гейнце в Лунове, мне хотелось, чтобы Штейн еще раз посмотрел на меня так, как там, и я себя ненавидела за то, что я этого хочу. Я сказала: «Штейн, ты можешь что-нибудь сказать? Ну пожалуйста? Может быть, ты мне что-то объяснишь?»
Штейн бросил сигарету на снег, посмотрел на меня, сказал: «Что я тебе должен говорить. Это — возможность, одна из многих других. Ты можешь принять ее всерьез, и ты можешь все оставить как есть. Я могу ею воспользоваться, могу бросить и пойти куда-то еще. Мы можем вместе принять ее или сделать вид, что мы друг друга не знаем. Это не играет роли. Я просто хотел тебе ее показать, вот и все».
Я сказала: «Ты заплатил 80 000 марок, чтобы показать мне одну возможность, одну из множества других? Я правильно поняла? Штейн? Что это значит?»
Штейн не реагировал. Он наклонился вперед, напряженно глядя на улицу, я проследила за его взглядом, улица была сумрачной, но снег отражал последний свет и блестел. Кто-то стоял на другой стороне. Я сощурила глаза и приподнялась, фигура была примерно в пяти метрах от нас, она повернулась и убежала в тень между двумя домами. Стукнула калитка, я была уверена, что это был ребенок из Ангермюнде, бледный придурковатый ребенок, цеплявшийся за передник.
Штейн встал и сказал: «Поехали».
Я сказала: «Штейн — ребенок. Из Ангермюнде. Почему он здесь, почему он стоит на улице и наблюдает за нами?»
Я знала, что он не ответит. Он открыл дверцу машины и держал ее, ожидая, что я сяду, я стояла перед ней, я чего-то ждала, прикосновения, какого-нибудь жеста. Я думала: «Ты ведь всегда хотел быть с нами».
Штейн холодно сказал: «Спасибо, что поехала».
После этого я села в машину.
Я уже не знаю, какую музыку мы слушали по дороге назад. В течение нескольких недель я очень редко видела Штейна. Озера замерзли, мы купили коньки и совершали факельные шествия через лес и по льду. Мы слушали Паоло Конте, глотали экстази и читали вслух лучшие места из «American Psycho»[19] Брета Истона Эллиса. Фальк целовал Анну, Анна целовала меня, а я целовала Кристиану. Иногда при этом был Штейн. Он целовал Генриетту, и когда он это делал, я смотрела в сторону. Наши дороги не пересекались. Он никому не сказал, что он наконец-то купил дом и что он ездил со мной его смотреть. Я тоже. Я не думала про дом, но иногда, когда мы возвращались в город на его такси и бросали наши коньки и факелы в багажник, я видела, что в нем лежит черепица, обои, банки с краской.
В феврале Тодди провалился под лед на Грибницзее. Гейнце скользил, высоко подняв факел, и орал: «Какой кайф! Языческий! Ой, я не могу!», он был совершенно пьян, Тодди ехал за ним, мы кричали: «Тодди, скажи: „Голубизна!“ Скажи!», и тут раздался треск, и Тодди исчез.
Мы замерли. Гейнце выпустил изо рта огромное кольцо, лед еле слышно звенел, с факелов, шипя, капал воск. Фальк побежал, спотыкаясь, на коньках, Анна сорвала с себя шарф, Кристиана по-дурацки закрыла руками лицо и тонко завизжала. Фальк лежал на животе, Гейнце не было видно. Фальк крикнул, и Тодди откликнулся. Анна бросила шарф, Генриетта схватила Фалька за ноги, а я не сдвинулась с места. Штейн тоже. Я взяла зажженную сигарету, которую он мне протянул, он сказал: «Голубизна», я сказала: «Холодно», и мы начали смеяться. Мы сгибались от хохота, ложились на лед, у нас текли слезы, мы смеялись и не могли остановиться, и когда они притащили мокрого, дрожащего Тодди, мы все еще смеялись, и Генриетта сказала: «Вы что, прибитые?»
В марте Штейн исчез. Он не появился ни на тридцатилетии Гейнце, ни на премьере Кристианы, ни на концерте Анны. Он пропал, и когда Генриетта нечаянно глупо спросила, где он, мы пожали плечами. Я не пожала плечами, но промолчала. Через неделю пришла первая открытка. На ней была фотография сельской церквушки в Канице, а на другой стороне было написано:
Крыша прочная. Ребенок ковыряется в носу, не разговаривает, он все время здесь. На солнце можно положиться, я курю, оно заходит, я кое-что вырастил, ты сможешь это есть. Плющ я обрежу, когда приедешь, ты знаешь, что ключи по-прежнему у тебя.
После этого стали регулярно приходить открытки, я ждала, что в какой-то день они прекратятся, но я ошиблась. На всех открытках была фотография церкви и четыре или пять предложений, похожих на загадку, иногда красивую, иногда непонятную. Штейн не писал: «Приезжай». Я решила ждать, когда он напишет «Приезжай», и тогда ехать. В мае открытки не было, было письмо. Я рассмотрела угловатый, крупный почерк Штейна, забралась обратно к Фальку в постель и разорвала конверт. Фальк еще храпел. В конверте была вырезка из ангермюндской газеты, дату на обратной стороне Штейн затушевал. Я отодвинулась от теплого спящего Фалька, расправила вырезку и прочла: