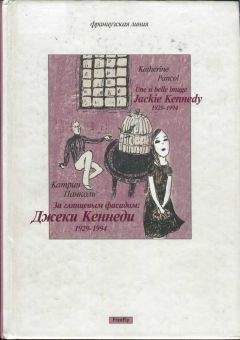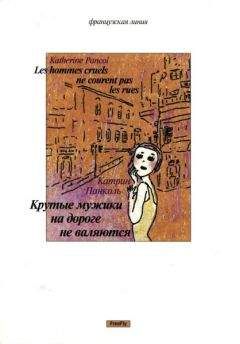— Что ясно? — взревела Ширли. — Ясно, что он тебя не видел! Ясно, что он вполне может переменить мнение. Ясно, что тебе пора стать Одри Хепберн и охмурить его! Ясно, что надо поменьше лопать шоколада во время работы! Ясно, что ты должна похудеть! Ясно, что когда от тебя останутся одни глазищи и осиная талию, он упадет к твоим ногам! И тогда ты будешь совать руку ему в карман пальто! И тогда вы оба будете порхать от счастья! Именно так ты должна рассуждать, Жози, и только так.
Жозефина слушала ее, не поднимая головы.
— Видно, я не создана для бурных романов.
— Только не говори мне, что ты уже сочинила себе целый роман!
Жозефина уныло кивнула.
— Боюсь, что да…
Ширли нажала на газ, вцепилась в руль, машина резко рванула вперед, впечатав ярость хозяйки в горячий асфальт.
Утром, как только Жозиана пришла на работу, позвонил ее брат и сказал, что умерла мать. Хотя от матери ей никогда в жизни ничего, кроме тычков, не доставалось, она заплакала. Оплакивала умершего десять лет назад отца, свое детство, полное невзгод и страданий, материнскую нежность, которой не знала, веселье, которое не с кем было разделить, и добрые слова, которых никто не говорил, всю эту мучительную пустоту внутри. Она ощутила себя круглой сиротой и поняла, что стала ей на самом деле, отчего заплакала еще пуще. Она словно наверстывала упущенное: в детстве ей плакать не разрешали. Только наморщишь нос да пустишь слезу, как оплеуха свистя рассекает воздух и обжигает щеку. И сейчас, проливая слезы, она понимала, что тем самым протягивает руку помощи той маленькой девочке, которая не могла поплакать всласть, утешает ее, обнимает и жалеет. Смешно, она будто раздвоилась: тридцативосьмилетняя хитрая и решительная Жозиана, которая своего не упустит, и та, другая — маленькая чумазая неуклюжая девочка, у которой вечно болит живот от голода, холода и страха. Они соединились в этих рыданиях, и обеим было хорошо.
— Что здесь, в конце концов, происходит? Это какой-то кабинет плача, честное слово. И вы вдобавок к телефону не подходите!
Анриетта Гробз, прямая, как палка, в шляпе, похожей на огромный блин, разглядывала стоявшую у стола Жозиану, которая только сейчас заметила, что звонит телефон. Она подождала, когда звонки прекратятся, достала из кармана скомканный одноразовый платочек и высморкалась.
— Моя мама… — всхлипнула Жозиана, — умерла…
— Понимаю, печально, и тем не менее… Все рано или поздно теряют родителей, и надо быть к этому готовым.
— Ну что делать. Значит, я не была готова.
— Вы уже не ребенок. Возьмите себя в руки. Если все служащие понесут на предприятия свои личные проблемы, во что превратится Франция?
Взрыв чувств на работе — такую роскошь может позволить себе начальник, но никак не секретарша. Потерпела бы до вечера, а дома рыдай, сколько влезет! Она всегда недолюбливала Жозиану. Ей не нравилась ее самоуверенность, не нравилось, как она ходит, крутя задом, вся такая гладкая, полная, грациозная, как кошка, не нравились ее пышные светлые волосы, а особенно глаза. Ах! Какие у нее глаза! То смелые, живые, дразнящие, то плывущие, томные… Анриетта часто просила Шефа уволить ее, но он не соглашался.
— Мой муж здесь? — спросила она у Жозианы, которая, выпрямившись, упрямо глядела в сторону и следила за мухой, лишь бы не смотреть в лицо ненавистной старухе.
— Он где-то в здании, скоро вернется. Можете посидеть у него в кабинете, он будет с минуты на минуту… Дорогу знаете!
— Повежливей, деточка, вы не смеете говорить со мной в подобном тоне, — ответила уязвленная Анриетта.
Жозиана вскинулась, как гремучая змея:
— А вы не смейте называть меня деточкой! Я Жозиана Ламбер, и вовсе не ваша деточка! К счастью! А то бы давно уже сдохла.
Как же мне не нравятся ее глаза, подумала Жозиана. Маленькие, холодные, злые, скупые глазки, расчетливые и подозрительные. Как же не нравятся мне ее сухие тонкие губы и белесый налет в уголках рта. Гипс, что ли, во рту у этой женщины? Вечно обращается со мной, как с прислугой. Нашла чем гордиться: тем, что вышла замуж за хорошего парня и выехала на нем из нищеты. Пристроилась, нашла себе тепленькое местечко — а я вот возьму и перекрою ей отопление. Хорошо смеется тот, кто смеется последним!
— Будьте осторожны, крошка Жозиана, учтите, муж со мной считается, а я могу решить, что вам не место в нашей фирме. Секретарш кругом полно. На вашем месте я бы следила за своей речью.
— А я на вашем месте не была бы так самоуверенна. Не мешайте мне работать и подождите в кабинете, — заявила Жозиана настолько властным тоном, что Анриетта Гробз послушалась и проследовала в кабинет скованной походкой робота.
На пороге она обернулась и, нацелив на Жозиану угрожающий перст, добавила:
— Мы не закончили, крошка Жозиана. Вы еще обо мне услышите, и могу я вам дать добрый совет: пакуйте вещички.
— Там будет видно, мадам. Я таких паршивок немало встречала, и ничего, справлялась. Зарубите это себе на носу.
Она услышала, как хлопнула дверь кабинета Шефа и довольно улыбнулась. Старая ведьма в бешенстве! Один-ноль в мою пользу. Зубочистка ее возненавидела с первой встречи. Жозиана никогда не опускала глаз перед ней, смотрела с вызовом. Эдакая дуэль двух фурий. Одна сухопарая, костлявая, злобная, другая — пухлая, розовая, игривая. Но обе яростные и непримиримые!
Она позвонила брату узнать, когда похороны, подождала немного — номер был занят — перезвонила еще раз, еще подождала… «Сможет ли она в самом деле меня выгнать? — внезапно подумала она, слушая короткие гудки в трубке. — Сможет или нет? Вообще-то, не исключено. Мужчины такие трусы! Возьмет да переведет меня в другой офис. В филиал. И я окажусь далеко от командного пункта, где я с таким трудом освоилась и где уже начинаю пожинать плоды». Ту-ту-ту, пищала трубка. Надо быть начеку. Ту-ту-ту… Она не позволит заморочить ей голову красивыми словами, хотя Марсель на них мастак!
— Алло, Стефан. Это Жозиана…
Похороны состоятся в субботу, на кладбище в деревне, где жила мать, и Жозиана, поддавшись внезапному порыву сентиментальности, решила поехать. Посмотреть, как ее мать навсегда опустят в черную яму и закопают. Тогда можно будет попрощаться и, наверное, шепнуть ей, что она была бы рада ее любить…
— Она завещала себя кремировать.
— Да ну? С чего бы это?
— Боялась проснуться в темноте…
— Я ее понимаю.
Мамочка боялась темноты. Жозиану охватила внезапная нежность и жалость к матери, она вновь заплакала. Положив трубку, высморкалась и вдруг почувствовала чью-то руку на плече.
— Что-то случилось, мусечка?
— Да мама умерла…
— Тебе плохо?
— Ну да…
— Иди ко мне…
Шеф сел на ее место, обнял за талию и усадил к себе на колени.
— Обними меня за шею и сиди так… Как будто ты мой ребенок. Знаешь, я всегда мечтал, чтобы у меня был свой малыш.
— Да, — всхлипнула Жозиана. Ей стало полегче в этих больших ласковых ручищах.
— А она так и не захотела мне его родить.
— Может, это и к лучшему… — сморкаясь, прошептала Жозиана.
— Хорошо, что ты у меня есть — сразу и жена, и ребенок.
— Не жена, а любовница… Жена в кабинете ждет.
— Что?
Шеф подскочил, словно ему в задницу воткнули гвоздь.
— Ты уверена?
— Мы тут перекинулись словечком…
Он растерянно потер лоб.
— Поругались?
— За что боролась, на то и напоролась.
— Ах ты ж! Мне сейчас позарез нужна ее подпись! Сумел сбагрить англичанам прогоревший филиал, ну ты знаешь, тот самый, в Мюрпене, я давно хотел от него избавиться… Надо чем-нибудь ее подмазать! Вот отчего бы тебе, мусечка, не подождать и не пособачиться с ней в другой день? Что мне теперь делать?
— Она потребует у тебя мой скальп…
— Что, прям настолько?
Он был явно обеспокоен. Принялся шагать взад-вперед по комнате, вертелся на месте, махал руками, разговаривал сам с собой, потом стукнул ладонью по столу и бессильно рухнул на стул.
— Ты так ее боишься?
Он горько улыбнулся, как поверженный воин, и поднял руки вверх, прося пощады.
— Пойду все же к ней…
— Да, посмотри, наверняка роется у тебя в ящиках.
Шеф с огорченным видом пошел к двери, хлопая себя по бокам, словно извиняясь за свое постыдное поражение. Вдруг обернулся, сутулый, подавленный, и робко, тихо спросил:
— Обиделась, мусечка?
— Иди уже…
Она все знала про мужскую отвагу и не надеялась, что он ее защитит. Много раз видала, как он дрожал после встречи с Зубочисткой. Ничего она от него не ждала, разве только ласки и тепла в постели. Просто дарила своему толстому добряку радость, которой он был начисто лишен в жизни, и сама тоже радовалась, ведь в любви отдавать не менее важно, чем получать. До чего же здорово чувствовать, как он млеет под ее тяжестью и замирает от счастья! Закатывает глаза, открывает рот в безмолвном крике. Она наслаждалась своим могуществом, своей почти материнской властью. Сколько их у нее было! Одним больше, одним меньше… Этот хотя бы славный, добрый. Она привыкла к ощущению власти, сроднилась и с ним, и с ее милым пупсиком, таким щедрым в любви. Может, и впрямь надо было помолчать в тряпочку? Жозиана мужчинам не доверяла. Впрочем, как и женщинам. Она и себе не очень-то доверяла! Порою собственные поступки ставили ее в тупик.