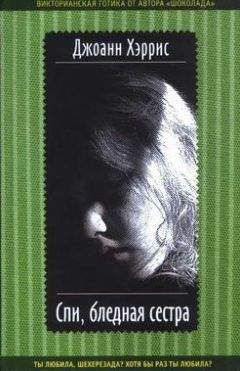Да, случались и промахи. Иногда ее скрытая чувственность не позволяла мне справиться с минутной слабостью, но я прощал ей ее природу, хотя это и принижало ее в моих глазах, – так же, как простил свою мать за то, что спровоцировала мое первое непростительное падение.
Я прокрался мимо спальни Эффи к себе. Было темно, в свете свечи я едва различал очертания умывальника, кровати и платяного шкафа. Прикрыв дверь, я поставил свечу на камин. Я сбросил одежду, повернулся к кровати – и потрясенно задохнулся. В мерцающих тенях я увидел детское личико на своей подушке: жуткие зеленые глаза сверкали лютой ненавистью и жаждой мести.
Бред, конечно, – не было никакого ребенка. Откуда ему взяться в моей постели глубокой ночью? Не было никакого ребенка. Чтобы убедиться, я заставил себя присмотреться. И снова этот яростный взгляд. Но на этот раз я заметил оскал острых как иглы зубов. Отпрянув, я схватил свечу. Язык пламени прочертил дымную полосу в воздухе, и я направил свечу на призрака, капая воском на простыни и обжигая пальцы. Тварь прыгнула на меня, с угрожающим шипением разинув пасть, – и со смесью злости и невероятного облегчения я узнал тощий коричневый силуэт. Кошка Эффи метнулась в темноту, исчезла за шторами и выпрыгнула в открытое окно.
Я взглянул на свое отражение в зеркальной дверце шкафа – лицо покрыто белыми пятнами, губы перекошены.
Я был зол на себя за то, что обычная кошка смогла напугать меня до полусмерти, но еще больше зол на Эффи, которая по какому-то нелепому капризу притащила в дом бродячее животное. Как там она ее назвала? Тисифона? Должно быть, какая-нибудь заморская чепуха из ее книжек – я знал, что еще не все их нашел. Я пообещал себе утром основательно обыскать ее комнату и выяснить, что она от меня прячет. А что касается кошки… я потряс головой, отгоняя видение лица на моей подушке, зеленые глаза, уставившиеся на меня с ярой ненавистью… Это просто кошка. Тем не менее я принял десять гранов хлорала, снотворного, рекомендованного моим новым другом доктором Расселом, и только потом смог опустить голову на эту подушку.
Я помню касание ее прохладных сильных рук к моим волосам. Ее лицо в свете лампы, бледное, как луна. Шорох ее юбок. Ее духи, теплый золотистый аромат янтаря и шипра. Ее голос, тихий, спокойный, напевавший без слов в такт поглаживаниям. Тише, тише, засыпай… Генри – лишь дурной сон, растворившийся в океане света. Часы на камине тикали громче моего сердца, а оно было легким, как одуванчик, и мягкие пушинки отсчитывали минуты теплой летней ночи. Глаза закрыты, легкие сонные мысли летели в гостеприимную темноту сна. Голос Фанни такой нежный, мелодичный, каждое слово как ласка.
– Шшш… спи. Спи, малышка… Засыпай… шшш… – Ее волосы коснулись моего лица, я улыбнулась и забормотала. – Вот так. Шшш… Спи, моя милая, моя Марта, любовь моя.
Убаюканная в ее объятиях, я позволила течению тихонько нести меня прочь. Она гладила меня по голове, а я смотрела, как мимо, словно воздушные шарики, проплывают воспоминания. Моз… кладбище… выставка… Генри… Какими бы яркими они ни были, я могла отогнать их прочь и вскоре увидела яркое облако шариков: нити переплелись, краски сияют в лучах заходящего солнца. Это было так красиво, что я, кажется, заговорила вслух тонким голоском маленькой девочки:
– Шарики, мамочка, они улетают. Куда они летят?
Мои волосы заглушали ее голос.
– Далеко-далеко. Они летят в небо, прямо в облака… они все разноцветные, красные, желтые, синие… Видишь?
Я кивнула.
– Полетай с ними немножко. Сможешь?
Я снова кивнула.
– Чувствуешь, как летишь вверх? Ты летишь вверх, с шариками. Вот так. Шшш…
Я поняла, что начинаю подниматься, без усилий, просто думая об этом. Я выплыла из тела, умиротворяющая картина все еще стояла перед закрытыми глазами.
– Ты уже раньше так летала, – мягко сказала Фанни. – Помнишь?
– Помню, – почти беззвучно произнесла я, но она услышала.
– На ярмарке, – настаивала Фанни.
– Да.
– Ты можешь опять там оказаться?
– Я… я не хочу. Я хочу лететь с шариками.
– Шшш, милая… все хорошо. Никто тебя не обидит. Мне просто нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты вернулась назад и рассказала мне, что ты видишь. Скажи мне его имя.
Я летела, и небо было такое голубое, что больно смотреть. Шарики поднимались над горизонтом. А подо мной, далеко внизу, виднелись ярмарочные шатры и навесы.
– Шатры… – пробормотала я.
– Спустись. Спустись к шатру и загляни внутрь.
– Н-нет… я…
– Все хорошо. Тебя никто не обидит. Спустись. Что ты видишь?
– Картины. Статуи. Нет, восковые фигуры.
– Ближе.
– Нет…
– Ближе!
Я вдруг снова оказалась там. Мне десять лет, я вжалась в стену своей спальни, Плохой Дядя приближается ко мне, и в глазах его вожделение и смерть.
Я закричала.
– Нет! Мама! Не разрешай ему! Не разрешай Плохому Дяде подходить! Не разрешай Плохому подходить!
Сквозь багровый туман и стук крови в висках я услышала ее голос, по-прежнему очень спокойный.
– Кто, Марта?
– Не-е-ет!
– Скажи мне кто.
И я посмотрела ему в лицо. Бескрайний ужас, застывшая вечность… а потом я его узнала. Ужас исчез, и я проснулась, Фанни обнимала меня сильными руками, смятый бархат ее платья промок от моих слез.
Очень мягко она повторила:
– Скажи мне кто.
И я сказала ей.
Мама прижала меня к себе.
Наверное, в прошлом веке меня бы называли ведьмой. Ну, мне давали имена и похуже, иногда вполне заслуженно, но меня никогда не заботило людское мнение. Я могу сварить бульон, который снимет жар, или приготовить поссет[26], от которого вы будете летать во сне, а иногда в зеркале я вижу то, что там не отражается. Я знаю, как бы это назвал Генри Честер, – ну что ж, зато у меня есть определение для таких, как он, и в Священном Писании вы его не найдете.
Если бы не Генри Честер, в июле Марте исполнилось бы двадцать. Я женщина обеспеченная и оставила бы ей приличное наследство – ей бы не пришлось жить на улице. Я бы подыскала ей дом и мужа, если бы ей захотелось; я бы дала ей все, о чем бы она ни попросила. Но когда ей было десять, Генри Честер отнял ее у меня, и я ждала десять лет, чтобы отнять у него Эффи. Мне всегда было не до поэзии, но я вижу эту страшную симметрию – и для меня это достаточное возмездие. Холодное, несомненно, но от этого не менее жестокое.
Я была очень молода, когда родилась Марта, если у меня вообще была молодость. Возможно, у нее было тридцать отцов – какая разница? Она была моей… Она росла, а я старалась оградить ее от той жизни, которую вела сама. Я отправила ее в хорошую школу и дала ей образование, которого у меня никогда не было; я покупала ей одежду и игрушки и поселила ее в приличном доме, у школьной учительницы, дальней родственницы матери. Марта навещала меня так часто, как только я осмеливалась ее приглашать, – я не хотела, чтобы она общалась с людьми, приходившими в мой дом, и я никогда не пускала клиентов наверх, в крохотную мансарду, где устроила ей спальню. Я пригласила Марту к себе в день ее рождения и, хотя в тот вечер я ждала гостей, пообещала себе, что позже займусь только ею. Я поцеловала ее на ночь… и живой больше не видела.
В десять вечера я услышала, как она зовет меня, и побежала наверх, в ее комнату… но она уже была мертва, лежала, раскинувшись, на кровати, с ночной рубашкой на лице.
Я знала: убийца наверняка кто-то из клиентов, но полицейские только рассмеялись, когда я потребовала расследования. Я была проститутка, моя дочь – дочь проститутки. А клиенты – богатые, уважаемые люди. Мне повезло, что меня саму не арестовали. В итоге мою дочь похоронили под белой мраморной плитой на Хайгейтском кладбище, а ее убийце позволили забыть о ней на десять лет.
О, я пыталась вычислить его. Я знала, что он здесь, я улавливала вину, что скрывалась за респектабельной внешностью. Вы знаете, что такое ненависть? Ненависть была моей едой и питьем. Ненависть шагала бок о бок со мной, когда во сне я настигала убийцу своей дочери и обагряла улицы Лондона его кровью.
Я ничего не изменила в комнате Марты – все оставила, как было: свежие цветы у кровати и все ее игрушки в корзине в углу. Каждую ночь я тайком пробиралась туда и звала ее – я знала, что она там, – и умоляла сказать мне имя, только лишь имя. Если бы она тогда назвала мне имя, я бы убила его без малейших угрызений совести. И отправилась бы на виселицу, сияя нимбом. Но за десять лет моя ненависть исхудала и проголодалась, как волк. Она стала умной и хитрой и смотрела на всех подозрительными янтарными глазами – на всех, но на одного человека в особенности.
Помните, я его знала – знала его алчные, постыдные наклонности, его приступы ненависти к самому себе, его вину. Он всегда просил молоденьких девушек, не сформировавшихся, девственных. Не то чтобы таких было много, но я видела, как он смотрит на маленьких уличных попрошаек, и видела его картины. Старый лицемер, чья нездоровая страсть способна задушить женщину. Но он был не единственный, кого я подозревала, и я не могла знать наверняка. Я пыталась дотянуться до моей маленькой Марты: сначала с помощью свечей и зеркала, затем с помощью карт. Всегда одни и те же карты: «Отшельник», «Звезда», «Жрица», валет монет, «Перемены» и «Смерть». Всегда одни и те же карты в определенном порядке: всегда рядом с Отшельником выпадала девятка мечей и Смерть. Но был ли Генри Честер этим Отшельником?