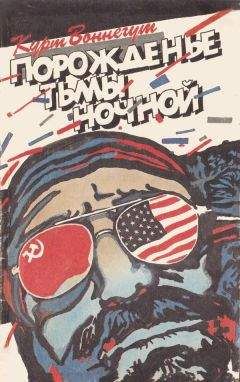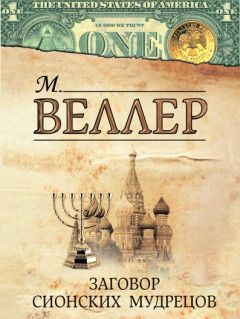30: ДОН КИХОТ…
Мы решили лететь в Мехико-Сити: Крафт, Рези и я. Таков был принят план. Доктор Джоунз же собирался обеспечить не только самолет, но и теплую встречу на месте.
Из Мехико-Сити мы отправимся на машине, обследуем окрестности, найдем подходящую деревушку и осядем там до конца дней своих.
Такой очаровательной фантазии мне давно уже в голову не приходило. И казалось не только возможным, но и безусловным, что я снова начну писать.
Я робко сказал об этом Рези.
Она заплакала от радости. Искренней ли? Кто знает. Я могу лишь засвидетельствовать слезы — мокрые и соленые.
— Неужели я хоть как-то причастна к этому невероятному, этому божественному чуду? — спросила она.
— Всецело, — ответил я, обнимая ее и привлекая к себе.
— Нет, совсем чуточку, — ответила Рези, — но хоть чуточку, благодарение Богу за это. Самое большое чудо — это талант, с которым ты родился.
— Самое большое чудо, — возразил я, — это твой талант воскрешать мертвых.
— Воскрешает любовь. И меня любовь воскресила тоже. Разве раньше я жила?
— Написать об этом? — спросил я. — Станет ли что моей первой темой в нашей мексиканской деревушке на краю Тихого океана?
— Да! Да, о, конечно, да, мой милый. А я так буду заботиться о тебе, пока ты будешь писать. Но… но у тебя будет оставаться хоть сколько-то времени для меня?
— Полудни, вечера и ночи. Вот и все время, что я смогу тебе уделить.
— Ты уже придумал имя? — спросила Рези.
— Какое имя?
— Свое новое имя — имя нового писателя, чьи замечательные книги вдруг начнут таинственно появляться в Мексике. А я буду миссис…
— Ты будешь «сеньора».
— Сеньора кто? Сеньор и сеньора…
— Окрести нас, — сказал я.
— Слишком ответственное дело, чтобы решать с ходу, — возразила Рези.
В этот момент вошел Крафт.
И Рези попросила его придумать мне псевдоним.
— А что, если — Дон Кихот? — предложил Крафт. — Тогда вы, — сказал он Рези, — становитесь Дульсинеей Тобосской, а я буду подписывать свои холсты — Санчо Панса.
Вошли доктор Джоунз с отцом Кили.
— Самолет будет готов завтра утром, — сообщил доктор Джоунз. — Вы уверены, что будете достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы лететь?
— Я и сейчас достаточно хорошо себя чувствую.
— В Мехико-Сити вас встретит человек по имени Арндт Клопфер. Запомните имя?
— Фотограф? — спросил я.
— Вы его знаете?
— Он делал мой официальный фотопортрет в Берлине.
— Сейчас он владелец крупнейшего пивоваренного завода в Мексике, — сообщил Джоунз.
— Надо же, — удивился я. — Последнее, что я слышал о нем, — в его ателье угодила пятисотфунтовая бомба.
— Хорошего человека в землю не вобьешь, — заметил Джоунз. — А теперь отец Кили и я хотели бы обратиться к вам с особой просьбой.
— Да.
— Сегодня вечером — еженедельное собрание Железной гвардии белых сынов конституции, — объяснил Джоунз. — Мы с Кили планируем мемориальную службу в память Августа Крапптаузра.
— Понятно, — кивнул я.
— Не сможем мы с отцом Кили сдержаться, говоря о нем поминальное слово, — объяснил доктор Джоунз. — Такое эмоциональное испытание нам не по силам. Но вы, знаменитый оратор, золотой язык, так сказать, не сочли бы вы за честь сказать несколько слов.
Деваться было некуда.
— Благодарю вас, господа, — ответил я. — Поминальное слово?
— Отец Кили предложил основную тему, может, построить выступление вокруг нее будет легче.
— О, разумеется, разумеется, зная тему, говорить легче, — согласился я. — Она, разумеется, весьма мне поможет.
Отец Кили откашлялся.
— Думаю, — произнес выживший из ума старый поп, — за основу выступления должен быть взят тезис: «Но дело его живет».
Железная гвардия белых сынов американской конституции расселась на рядах складных стульев в каминной подвала доктора Джоунза. Состояла она из двадцати гвардейцев в возрасте от семнадцати до двадцати лет.
Все были аккуратно одеты в костюмы и белые рубашки с галстуками. Единственным знаком принадлежности к гвардии служили крохотные золотые ленточки, вдетые в петлицу правого лацкана.
Я бы и не заметил этих странных петлиц на правых лацканах, где обычно петлиц не делают, не обрати на них мое внимание доктор Джоунз.
— Это для того, чтобы они могли опознавать друг друга даже без ленточки, — объяснил он. — И продвижение по службе видно, хотя скрыто от посторонних глаз.
— Им всем приходится обращаться к портным, просить прорезать на правом лацкане петлицы? — спросил я.
— Матери делают, — ответил отец Кили.
Кили, Джоунз, Рези и я сидели на небольшом помосте лицом к гвардейцам, спинами к камину. Рези сидела с нами, поскольку согласилась сказать ребятам несколько слов о личном опыте знакомства с коммунизмом за «железным занавесом».
— Портные почти все евреи, — заметил доктор Джоунз. — Мы не хотим выдавать себя.
— Да и матерям тоже полезно приобщиться, — добавил отец Кили.
К нам на помост поднялся шофер Джоунза, Черный Фюрер Гарлема, и укрепил за нашими спинами большое полотнище с лозунгами, привязав его веревками со вшитыми кренгельсами за трубы парового отопления.
Лозунги гласили: «Набирайся знаний!», «Будь в своем классе первым во всем!», «Блюди чистоту и силу тела!», «Не распускай язык!».
— Ребята местные? — спросил я Джоунза.
— Нет, нет, — ответил тот. — Только восемь из них вообще нью-йоркцы. Девять из Нью-Джерси, двое из Пикскилла — вон те близнецы, а один ездит аж из Филадельфии.
— Каждую неделю ездит из Филадельфии? — переспросил я.
— Где же еще ему найти то, что предлагал здесь Август Крапптауэр? — вздохнул Джоунз.
— Как их навербовали? — поинтересовался я.
— Через мою газету. Но, в общем-то, все они пришли сами. Сознательные обеспокоенные родители все время присылали письма в «Уайт крисчен минитмен», спрашивая, существует ли молодежное движение, борющееся за чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем за всю мою жизнь я получил от женщины из Бернардсвилля, штат Нью-Джерси. Она позволила своему мальчику вступить в «БСА» — «Бойскауты Америки», не подозревая, что по-настоящему «БСА» следовало бы расшифровывать «Большевики-семиты Америки». И что вы думаете? В скаутах мальчишка дорос до «орла», а потом ушел в армию, пошел служить в Японию и вернулся домой с женой-японкой!
— Август Крапптауэр плакал, читая это письмо, — вставил отец Кили. — Вот тогда-то он и понял, что, несмотря на усталость, должен вернуться к работе с молодежью.
Объявив собрание открытым, отец Кили предложил всем помолиться. Молитву он прочитал заурядную, насчет мужества перед лицом вражеских орд.
Один штрих церемонии, правда, выглядел весьма незаурядным, такого я и в Германии не видел. У задней стены стоял с литаврой Черный Фюрер. Литавра была укутана, чтобы приглушить звук — укутана той самой искусственной леопардовой шкурой, в которую вместо халата укутывался я. Каждую фразу молитвы Черный Фюрер заключал ударом в приглушенную литавру.
Выступление Рези о ужасах жизни за «железным занавесом» вышло коротким и скучным и столь неудовлетворительным с образовательной точки зрения, что Джоунзу пришлось задавать ей наводящие вопросы.
— Ведь правда, что преданные коммунисты в большинстве своем люди еврейской или азиатской крови? — спросил он.
— Что? — переспросила Рези.
— Конечно, правда, — сам себе ответил Джоунз, — это же само собой разумеется.
И довольно бесцеремонно закончил ее выступление.
Где в это время был Джордж Крафт? Сидел в последнем ряду, прямо перед приглушенной литаврой.
Затем Джоунз представил аудитории меня, представил как человека, в представлениях не нуждавшегося. Но сразу же мне слова не дал, объяснив, что приготовил сюрприз для меня.
И какой!
Оставив свою литавру, Черный Фюрер шагнул к реостату у выключателя и начал постепенно приглушать освещение, пока Джоунз продолжал говорить.
А говорил Джоунз в сгущающейся тьме о моральном и интеллектуальном климате Америки во время второй мировой войны. О том, как преследовали за убеждения патриотичных и дальновидных белых людей, как, наконец, почти все американские патриоты были брошены в застенки федеральных тюрем.
— И нигде американец не мог более найти слова правды, — сказал он.
В зале стало темно хоть глаз выколи.
— Почти нигде, — продолжал в темноте Джоунз. — По если кому повезло иметь коротковолновый приемник, один источник правды еще оставался. Один-единственный.
И вдруг в темноте послышались звуки и трель коротковолнового эфира, обрывки французской речи, затем немецкой, такты Первой симфонии Брамса, звучавшие так, будто ее исполняли на детской дудке-сопелке, а затем четко и ясно: