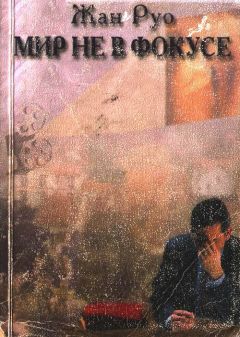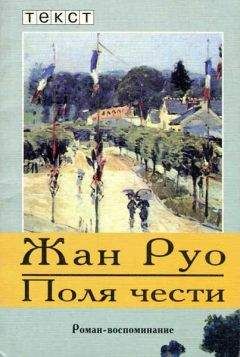Даже не дожидаясь приглашения, он плюхнулся на мою постель, принял позу лотоса (на самом деле — портняжки, но нынче ведь все открыли для себя индийский духовный путь) и предложил мне продолжить «стрижку овец». Прежде всего он хотел убедиться, что я не сбиваюсь с ритма. Это немного деликатная материя. Напрасно я отбивал ритм ногой, нога моя сбивалась так же, как и пальцы, но не ему бы походя делать мне замечания о вероятных модификациях ритма. Ритм потихоньку выравнивался, а поскольку других танцоров, кроме меня и моей ноги, не было, можно было позволить себе и некоторые вольности. Короче, это импровизированное прослушивание проходило не без риска для меня.
Для начала, чтобы сбить визитера с толку, я зажал скрипку под подбородком, взял смычок в руку и попытался «перематывать шерсть» своих «овечек» под внимательным взглядом моего судьи, который вдруг принялся стучать ладонью по краю стола. Стоп. Я перепутал все пальцы, и он тут же сделал мне замечание, что все это никуда не годится. Пришлось пуститься в объяснения, что напрасно, де, было принимать классическую позу для этого куска, и, приставив скрипку к груди, — мол, недаром так поступают все деревенские скрипачи, — я потребовал, чтобы мне предоставили еще один шанс. «Овечье руно сам стригу я давно, овечье руно сам стригу я давно». Смычок прыгал по струнам, пальцами левой руки я иногда попадал на верные нотки, и на сей раз мой слушатель, кажется, был доволен. Он встал и, махнув мне рукой, чтобы я продолжал, встал в кокетливую позу, выгнул спину, приосанился и, руки в боки, устремив взгляд вдаль, исполнил несколько па, покружившись в пространстве между кроватью и столом и чуть не вывалившись в окно, затем танцующим шагом прошелся вдоль комнаты, время от времени притопывая каблуком — трам-там, трам-там, — то разворачиваясь к свету («сам стригу я давно»), то к дверям, ловко обходя угол матраца — трам-там, трам-там, — снова посильнее притопывая, и наконец, угодив ногой в корзину для бумаг («сам стригу я давно»), решил, что с него хватит. Но опыт показался обнадеживающим: «Танцевать под это можно», — сказал он, закидывая обратно в корзину смятые бумажки, среди которых я заметил и густо измаранные черновики рукописи о моем Жане-Артюре.
Перехватив мой взгляд, Жиф спросил, нет ли чего-нибудь еще в моем репертуаре. И тут он попал прямо в точку. По тому же образцу я напек немало песенок на этакий кельто-овернский лад, совсем как народные, но мои, к которым, если он того пожелает, я охотно взялся бы написать слова того же замеса, что и музыка. Но на самом деле ничего такого ему не было нужно, он хотел лишь музыкальную фонограмму для своей восьмимиллиметровой короткометражки, которую только что снял. Теперь мне стало понятнее, почему он выбрал такие очки: передо мной был артист.
Фильм Жифа был бессюжетным — и я тут же пожалел, что справился об этом, — во всяком случае, в нем самом никакой истории не рассказывалось. Скорее, это своего рода аллегория, если я правильно понял. Конечно же, как-то я понял, но, опасаясь превратно истолковать, попросил у него разъяснений. Я отдавал себе отчет в том, что последовательно излагать какую-либо историю — это не что иное, как проявить себя реакционером, который запудривает мозги трудящихся масс, мешая им осознать, что их эксплуатируют, навязывая им контрреволюционные модели; но разве сам зрительный ряд не представлял собой единое повествовательное целое? Другими словами, даже если признать, что термин «зрительный ряд» не совсем подходит к фильму такого типа, — может быть, на экране все-таки что-нибудь появляется. Да-да, разумеется, атмосфера. Я уже гораздо лучше проникся замыслом моего нового друга, но — признаю, что с моей стороны, возможно, бестактно настаивать, — атмосфера чего? Есть ли там, например, актеры? Не дожидаясь ответа, я тотчас поправился: действующие лица. «Так говорить предпочтительнее, — одобрил он и, снизойдя до объяснений, добавил: Мне удалось этого избежать. Вообще-то, творческий процесс послужил лишь поводом, чтобы устроить праздник: заниматься съемками фильма или заниматься любовью — это одно и то же. Дело не в том, чтобы режиссировать, по-фашистски навязывая свою волю», — тут и я возмутился: «Никогда бы не позволил себе даже представить такое!» — с чем он в полной мере согласился: «Главное — дать каждому возможность выразить, без прикрас и ложной скромности, свои творческие порывы». — «Должен получиться интересный фильм», — подытожил я. По его разумению, оказалось, что «интересный» — неправильное слово (конечно же, но сегодня я что-то туго соображаю), к тому же, результат, в его глазах, не имел никакого значения: для него что завинтить гайку, что сочинить фугу Баха — все равно, только сам процесс шел в расчет, но, во всяком случае, пока судить было рановато, да он и сам еще не видел его, свой фильм.
Высказался Жиф яснее ясного: поскольку результат не имеет никакого значения, нечего было и напрягаться по поводу просмотра. Конечно, этот «акт-не-акт» соотносится как-то с процессом творчества. Однако интересоваться собственным творением означает следовать логике интересов и выгод, замешанной на мелкобуржуазном самодовольстве. Я был весьма доволен тем, что, выражаясь диалектично, начал кое-что понимать, но тут Жиф меня прервал: он на все сто согласен со мной, только должен уточнить, что фильма не посмотрел потому, что тот еще не проявлен. Тираж негатива стоил кругленькую сумму, а в настоящее время ни гроша в кармане. Вместе с тем Жиф рассчитывал вскоре возобновить работу: его подружка на чердаке своей бабушки наткнулась на кучу серебряных приборов, которые он собирался продать на толкучке. Смогу ли я посмотреть, когда все будет закончено? Само собой, иначе бы он не пришел сюда. Но прежде, чем он объяснит мне мою роль — вот как, я буду играть? — не дам ли я ему чего-нибудь выпить? Кроме чая, ничего нет. Мой ассистент режиссера поморщился. И предложил пойти в кафе на углу (до угла надо брести с километр).
Кафе называлось «У славного рыбака» в память о тех временах, когда рядом с городом текла речка, где любили удить рыболовы. Теперь ее завалили всяким хламом, превратили в сточную канаву, и постепенно город надвигался на кабачок, который выживал лишь благодаря тому, что рядом, на свежем воздухе, в построенных посреди лесочка небольших зданиях разместился факультет, что, несмотря на протесты, окупало дорогу. Когда близился конец учебного дня, хозяева кафе срочно перекрашивались в поклонников сумасшедшей молодежи. Пока мадам Жаннет хозяйничала в зале, а мсье Луи не отходил от кофеварки и пивного крана, они обязательно отшучивались на студенческие подначки. Может быть, иногда по вечерам, когда они уже подсчитывали выручку, от усталости у них вырывалось что-нибудь вроде: и чего не приходится перетерпеть… но волосатики были так же охочи до выпивки, как и рыбаки, разве только немного шумнее, так что залогом этих усилий все-таки должна была стать обеспеченная старость.
А волосатиков если и было в чем упрекнуть, так это в том, что, заказав себе выпивку, они могли просидеть до закрытия перед одним-единственным бокалом (тогда как другие, едва сунув нос в кафе и видя, что все места заняты, разворачивались, к великому огорчению мадам Жаннет, которая бежала за ними, заверяя: ничего, мол, сейчас все потеснятся) или затеять шумную игру в настольный футбол с реваншами, решающими партиями, разделениями, объединениями, криками, протестами, под которые месье Луи с мадам подзадоривали проигравших угостить всех присутствующих.
Жиф, будучи никому не известным режиссером до порога заведения, здесь сразу же превращался в завсегдатая, судя по вопросу месье Луи из-за стойки: «Как всегда?». Как всегда — в этом ощущалось нечто от чуждого мне насилия, но поскольку я выступал в роли почитателя таланта, лучше было не вызывать раздражения, оригинальничая с чаем, поэтому на вопрос: «И тебе то же?» — я неосмотрительно ответил: «И мне». Неосмотрительно, потому что на пятой кружке и после нескольких оповещений о перерыве («извини» — прежде чем исчезнуть в глубине кафе за дверью, от которой надо было еще попросить ключ, что отнюдь не выводило хозяев из себя, а, казалось, лишь развлекало их, да и вообще они были сама предупредительность и на ходу предлагали мне пропустить пивка по новой, так что каждый раз, когда я возвращался, передо мной стояла полная кружка, и я горячо благодарил мадам Жаннет, протиравшую губкой столик, поскольку, разволновавшись, я, конечно же, опрокинул ее, кружку то есть, а мадам успокаивала меня, что не случилось ничего страшного, и тут же: «Луи, еще одну для месье») я начал жаловаться на свою судьбу. Меня поразило, сколько людей интересуются моей персоной, для одного дня этого было слишком, и, как всегда в таких случаях, слезы стали наворачиваться мне на глаза. Моему собеседнику, встревоженному такой повышенной эмоциональностью, я отвечал, что это ничего, просто у меня нет опыта. «Ты предпочитаешь белое вино?» — осведомился он.