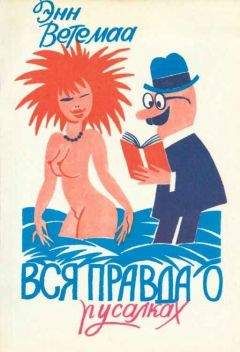Бабка ласково благословила Калева и поезд — больше она ровным счетом ни о чем не тревожилась.
Откуда только берется такое спокойствие, думал Калев, снова сидя в вагоне. Наверное, приходит с годами. А ему такое где взять?
Однако немножечко покоя перепало и страдальцу Калеву: он проснулся аккурат на своей станции.
И вот Калев Пилль уже шагает сквозь предрассветный сумрак к дому. Светало на глазах, уходящая ночь сворачивала серый ситец теней. Мягкий, сырой воздух. И особая тишина. Калев с сожалением подумал, что проспал много таких прекрасных рассветов, — ведь до сих пор он был человеком, скорее, вечернего и ночного образа жизни. Но теперь он сменит работу, а заодно что-нибудь переменится и тут.
Полной грудью он вбирал свежий утренний воздух, можно даже сказать, это утро, которое успокаивало и бодрило одновременно. Ему вспоминалась пантеистическая поэзия Уитмена, потом перед глазами встала картина Рериха, где линия слияния неба и земли веяла покоем, какой только и можно назвать божественным. И эти воспоминания обрадовали его. Чего стоит несчастный синяк под глазом, несчастный Вольдемар Сяэск и этот несчастный вытрезвитель! Как они ничтожны рядом с этим великим, которое надо лишь заметить.
Свой поселочек тоже показался непривычным — не было дневного беспокойного грима, он был отмыт с лица; все ровно, разумно, на своем месте. В витрине книжной лавки — Толстой и словари. Заходите, берите и читайте, углубляйтесь в мир, в самих себя! Кулинарный магазин… Наконец-то Ильме из него вырвется!
А за поворотом он увидит свой дом — спящий дом, за клетками окон досматривают последние сны его друзья, милые и разумные люди.
Вот и он. Калев приостановился. В нем проснулось чувство блудного сына, который возвращается домой. Нет, точнее, это было чувство «изменившегося» сына — болезненно-сладкий провал под сердцем. Сын напрочь отказался от амбиций, от пустых хлопот, и в его душе — долгожданный покой.
Ох, какое замечательное чувство! — подумал Калев.
Сейчас, сейчас он распахнет дверь, вдохнет знакомые запахи… Дом… Этот маленький дом в самом деле славная штука! Каждому человеку необходимо местечко, где бы его ждали. Да, но в будущем надо, конечно, подыскать дом попросторней. И сразу вспомнилось, что местное объединение «Сельхозтехники» собирается строить дом для своих работников. Если он пойдет в мелиораторы — а значит, не миновать идти наниматься к Пеэтеру, — тогда, может, и у него появится надежда на квартиру.
Калев уже ступил на крыльцо, как вдруг его что-то кольнуло: на сетчатке глаза запечатлелось нечто чужое, здешнему пейзажу не свойственное. Где-то поблизости должно быть инородное тело.
Он развернулся, огляделся. Вначале ничего не заметил, все как обычно: детская карусель из железных трубок, цементные конусы-клумбы с цветами, мусорные баки, соседская зеленая «Победа». Но чуть в стороне от дома, за кустами сирени его взгляд наткнулся еще на одну машину — темно-красные «Жигули». Там машины не ставили, но неважно, темно-красные «Жигули» — как-то назойливо знакома была эта машина… У кого в округе есть такая? У Пеэтера, да, у того самого Пеэтера, о котором он только что думал. Пеэтер? Почему его машина здесь?
И тут в сознании Калева зазвучало какое-то сбивчивое, нервозное тремоло. Такое же чувство возникает, когда съезжает с волны приемник или от неисправного утюга на экране телевизора мерцает серебристый пунктир.
Калев подошел ближе: так и есть — машина Пеэтера. Сквозь лобовое стекло на него таращилась уродливая обезьяна на резинке, в цилиндре и с настоящей сигаретой в зубах. Калев шагнул еще, и… словно что-то взорвалось: черный хлопающий ковер на миг застлал небо. Калев безотчетно пригнулся и не сразу понял, что спугнул ночевавшую в сирени стаю дроздов. Птицы не издали ни звука, и это было особенно мрачное предзнаменование. Только темный, упругий шелест остался в ушах после того, как дрозды уже скрылись за крышами.
Калев все еще пялился на мартышку: она крутилась на резинке — видимо, в окно задувало — и сверкала красным задом.
Вдруг Калев понял, где сейчас Пеэтер!
Он услышал стук своего сердца, мелкий, глухой, тяжелый, повернулся и пошел к дому короткими, почему-то крадущимися шагами.
В парадном, как всегда, отдавало кислой капустой, но и в этом памятном духе Калев различил что-то чужое, невидимое, но вполне реальное.
Пока он искал в кармане ключ, ладони покрылись потом. Серовато-зеленая дверь с выбившимся из щели войлоком. Номер восемь. Эмалированная табличка болталась на одном шурупе. Нерадивый ты был хозяин, подумал Калев отчего-то в прошедшем времени. ПИЛЛЬ — сухими губами сложил он по буквам свое имя, будто прочел его впервые.
Руки дрожали, однако когда он приподнял дверь за ручку, чтобы та не скрипнула, то ощутил в пальцах прямо-таки воровскую ловкость. Удивительно — он не смог сдержать улыбки: «Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать — ты подлей им под пяточки маслица».
Скрипучая дверь, словно по волшебству, отворилась тихо-тихо. Снова запах, знакомый запах знакомых одежд. Глаза пока ничего не различали. Он ощупал рукой темноту, и его словно током ударило. Рука отнялась до плеча: он притронулся к толстому прорезиненному плащу. Черный, длинный прорезиненный плащ, засвербило в мозгу, местами потрескавшийся, пуговицы должны быть плетеные. Так и есть! Он!
Пеэтер! Конечно, Пеэтер! Интересно, что ему тут среди ночи нужно, это же может вызвать подозрения… бестолково шлепали губы Калева. Он знал и не хотел знать!
Калева, здорового, сильного мужчину, охватило неодолимое желание удрать. Может, удастся как-нибудь выскочить из всего этого, убежать, как будто он ничего не видел. Забыть.
Они не слышали, как я пришел, стало быть, все в порядке, все в полком порядке, как все-таки здорово, что они меня не слышали…
Квартира в самом деле безмолвствовала. Еще пара шагов, и Калев в кухне. На столе стояла недопитая бутылка коньяка. «Греми», дорогой коньячок, — конечно, у Пеэтера денег куры не клюют. И еще на столе стояла банка с консервированным угрем — в ней тоже осталась еще пара кусочков.
Снова захотелось бежать. Зачем он вообще пришел? Зачем его выпустили? Хорошо бы сидеть в прекрасном кресле с кожаными ремнями и ничего не знать. Он все не мог уйти. Один мудрый человек написал, что боль ревности единственная из всех известных в мире понуждает человека сделать все, чтобы она стала еще острее. Затаив дыхание, Калев прокрался к спальне. Дверь была приоткрыта.
Там они и были. Нет, во всем этом не было ничего страшного — просто двое спали. Самым обыкновенным и невинным образом: один, черноволосый, лежал на спине и мерно похрапывал, его не ахти какая чистая нога выглядывала из-под одеяла. Да, одеяло и Калеву было коротковато. Спала и Ильме. Очень добродетельно. Видал, спят, будто ничего не происходит. Ах, кто-то спит с моей женой? Ну и что? Что тут особенного: сон, по Павлову, защитная реакция организма. Пожалуйста, спите себе с моей супругой, только смотрите, чтобы…
И лишь одна мелочь неожиданно больно саданула Калева — нет, не то, что рука Ильме была на плече Пеэтера, нет. Обидно было другое: Пеэтер прислонил левую руку к стене. Ему, Калеву, такое не дозволялось — обои, видите ли, замусолятся. А Пеэтер дрыхнет — обои мусолит… Где же справедливость? Завтра, может быть, на этом месте будет лежать сам Калев. Завтра? Уже сегодня. Только вот… О господи, знал бы он, что еще стрясется сегодня?!
Дурак дураком стоял он в дверях и не знал, что делать. Наконец все же отступил и споткнулся об огромные башмаки Пеэтера. Этот Пеэтер мужик небольшой, а мослы — дай бог. Сорок пятый, не меньше. Утащить бы у него сейчас эти туфли, глупо улыбнулся Калев. Как он домой пойдет? В моих не разбежишься!..
Туки-туки Ильме, туки-туки Пеэтер!
Калев дошел до двери, лицо по-прежнему растягивала какая-то оцепенелая улыбка, и ему сделалось мерзко — того и гляди, стошнит. Только бы выбраться тихо! А может, остаться, схватить нож или топор? Но все было так постыдно и отвратительно, — Калеву нужно было время опомниться. Да и хорошенькое зрелище представлял бы он с этим топором: убийцы из него все равно не выйдет. Нет, прежде всего вон! Вон!
Ну, мажь воротам пяточки маслицем!
Вышел Калев тоже тихо, хотя дверь и скрипнула ему вслед.
В подъезде он начал жадно хватать воздух, как выброшенная на берег рыба. Он притулился спиной к стене и еще раз прочел на табличке свою фамилию — ПИЛЛЬ: дурацкая фамилия! Как раз для человека, которому наставили рога.
Бог мой! Обидней всего, что они спали так безмятежно, так невинно! Неужто совсем не боялись, что я могу вернуться? Грешникам полагается испытывать душевные муки, о ночном покое они могут только мечтать. Но чтобы после столь безобразного предательства — такая безоблачность?
И тут он вспомнил — почта! У него нет ручки, и он дожидается ее за спиной престарелой дамочки в затейливой шляпке. Та приготовилась наклеить на конверт с адресом «Австралия» гигантскую марку с цветком. Могла бы хоть место освободить, ручки-то привязаны. Что же она тянет? Тетка растерянно смотрит через плечо, растерянно и зло. И Калев догадывается, что воспитанной дамочке неловко на людях облизывать марку. Он отходит в сторону, рраз! — совершает мадам проступок противу благонравия и притискивает марку к конверту, затем чинно подымается и бросает на Калева осуждающий взгляд. Теперь он может присесть. На бланке телеграммы он выводит: «Дорогая Ильме…» — и тут с разлохмаченного перышка срывается жирная клякса (разве одного этого мало, если подумать задним числом о предзнаменованиях?). Калев берет новый бланк: «Дорогая Ильме. Сегодня иду в министерство. Буду не раньше завтрашнего вечера. Твой Калев».