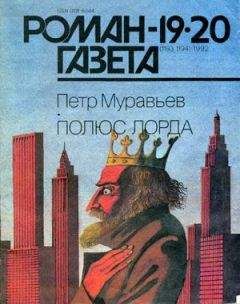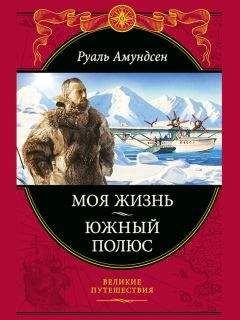В назначенное время наша шестерка собралась у Ника. Туда же явилась Дорис – как администратор отдела она обычно участвовала в обсуждении финансовых вопросов.
Как это часто случается, когда был поставлен вопрос о полугодовом бюджете, мнения разделились. Одни требовали увеличения ассигнований, сторонники же экономии предлагали сократить расходы по некоторым статьям проектов. Благодаря моей умеренной позиции, Ник предложил мне, совместно с Дорис, рассмотреть спорный вопрос и представить через две недели подробный доклад.
Такой оборот дела был неожиданным; сердце у меня забилось. Ведь это означало, что я ежедневно буду встречаться с Дорис, не ломая головы над благовидными предлогами. Я бросил быстрый взгляд на девушку, и мне показалось, что она тоже смущена.
Совещание закончилось. Мне нужно было подойти к ней, чтобы условиться о встрече, но непонятная робость овладела мной. Я уж направился к двери, рассчитывая незаметно ускользнуть, когда услышал ее голос:
– Так как мы сделаем? Нам следовало бы договориться.
Я обернулся. Дорис спокойно смотрела на меня; в глазах у нее дрожали искорки сдерживаемой улыбки… Нет, только не сейчас, сперва нужно обдумать… И я торопливо и неуверенно ответил:
– Давайте встретимся после обеда… Мне нужно идти на другое совещание… После обеда, если вас устраивает?
– Отлично, в два часа?
– Да, в два, конечно, – отвечал я, смешавшись. Почему-то на людях я не мог выдержать ее взгляда.
В условленное время я с папкой дел направился к Дорис.
Войдя к ней, я вздрогнул, увидев поднятые на окнах шторы. Я даже, кажется, зажмурился, хотя солнечные лучи уже скользили мимо, не попадая в помещение. А затем сказал совсем некстати:
– Видите… Сколько света! Дорис улыбнулась:
– Да… И улицу видно, и вообще… – В лице ее проступило незнакомое выражение. Опустив глаза, она взяла со стола ближайшую папку и раскрыла ее.
Я уселся напротив. Она молчала, перебирая бумаги; затем подняла голову.
– Зачем вы это сделали? – спросила она тихо. Я, конечно, догадался – что она имеет в виду.
– А зачем вы спрашиваете об этом сейчас? – отвечал я.
Дорис пожала плечами.
– Это с вашей стороны не очень вежливо, – сказала она. – Вы еще не ответили на мой вопрос, а уже хотите припереть меня к стенке.
– Ошибаетесь. Я просто недоумевал – чего вы не могли понять.
– Тогда тем более скажите, зачем это сделали.
– Затем, что не мог равнодушно смотреть на обман.
– И вы поступили бы таким же образом, если бы это касалось другого?
– Не знаю, может, и поступил бы…
– Вы уверены? Подождите отвечать! А я думаю, что вы или лицемерите, или недостаточно себя знаете.
Я усмехнулся:
– Часто бывает, что это одно и то же. Но ответьте и вы наконец: зачем вы начали этот разговор?
– Об этом вы сами должны догадаться. Это не может тянуться без конца.
– Что не может?
– Те ненормальные отношения, какие установились между нами. Мы должны что-то между собой упорядочить.
Она волновалась, хотя и старалась это скрыть.
– Дорис, – начал я, тоже волнуясь, – я догадываюсь, что вы подразумеваете под этим «упорядочением». Так вот, извольте, согласен. Зато взамен вы, наверно, разрешите мне поболтать иногда с вами о том о сем, о разных пустяках, которые сейчас так хорошо видны в окно! – Я театральным жестом указал на поднятые шторы.
Дорис улыбнулась.
– Вы артист, и, право, у вас это неплохо получается. Что ж, именно так я себе это и представляла, хотя не сумела бы высказаться так гладко. Тогда, значит, все в порядке?
– Да. Давайте приступим к делу! – И я стал раскладывать перед собой принесенные бумаги.
Прошло еще недели полторы; за это время мне дважды пришлось слетать по служебным делам – сперва в Чикаго, потом в Индианаполис. Я давно пришел к заключению, что, несмотря на мой романтический склад, путешествия мало что мне дают. Люди, каких встречаешь в дороге или на местах, в большинстве своем народ деловой и серьезный, и по одной этой причине скучный. Даже выпитое – а пьют они здорово – не выводит их за пределы унылого делового мирка, в котором они чувствуют себя как в царских палатах. Их воображение притуплено, они смеются как автоматы и обычно там, где я не нахожу ничего смешного. Они вполне здоровы – таких здоровых упитанных людей нигде больше и не сыщешь! Но мне все время кажется, что под личиной здоровья кроются самые разнообразные недуги: катары, склерозы, депрессии и бессонницы.
«Здоровый человек – это человек, не сознающий своих болезней!» – так, кажется, полагал ро-мэновский доктор Кнок. Кто знает, может, и стоило бы последовать его примеру и превратить нашу планету в образцовый госпиталь, в котором… А впрочем, опоздал! Кое-что в этом направлении сделано и здесь, хотя нам куда как далеко до одной удивительной страны, где, говорят, умудряются лечить даже от политических заблуждений!
Итак, я был рад вернуться. В шесть часов самолет приземлился на аэродроме Ла Гвардиа, а к половине восьмого я был дома.
Почты для меня не было, отужинал, я еще на самолете, и поэтому совершенно не знал, что с собой делать. Рассеянное состояние, в каком я обычно пребываю после путешествий, мешало на чем-либо сосредоточиться. Я взял какой-то развлекательный журнал и, без особого интереса, стал перелистывать, пока не набрел на рассказ о том, как туземцы африканского племени ловят обезьян.
Для этой цели они употребляют обыкновенную тыкву. В тыкве проделывается отверстие, и через него вынимают содержимое. Затем наполняют тыкву наполовину камнями, а сверху посыпают бобы – излюбленное обезьянье лакомство. Отверстие настолько узко, что животное с трудом просовывает в него лапку. Когда обезьянка захватит в горсть семян, то вынуть лапку уже не может, а выпустить добычу не догадывается. Как видим, здесь не помогает даже инстинкт самосохранения, и бедный зверек попадает на стол к африканским гастрономам.
Мне жаль обезьянку, потому что игра ведется нечестно. Капкан – другое дело: раз попав в него, жертва обречена! А с тыквой выходит как-то нехорошо: дверь открыта, ты ее видишь, так нет, жадность или неразумность закрывает от тебя спасительный выход!
Я усмехнулся: не похож ли я сам на бедную обезьянку? Сумею ли вовремя разжать руку, вовремя вырваться из ловушки, которую сам приготовил?…
Размышления подобного рода мне, однако, быстро наскучили. Может быть потому, что именно в ту пору я жил в очень реалистическом мире, где люди и вещи, не соприкасаясь с фантастикой, постоянно напоминали о том, что дважды два – четыре, что женщина может распорядиться своей судьбой так же неосмотрительно, как мужчина, и что жизнь нисколько не станет счастливей от того, что в помещении городского банка разорвется самодельная бомба.
***
На следующее утро я поднялся раньше. Тут же вспомнил, что ночью просыпался, вставал, курил, но это не помогало: какая-то беспокойная мысль следовала за мной по пятам.
Я не обманывал себя: конечно, это – Брут! Буду ли и я участником первой акции? А впрочем – что мне, собственно, терять? Это соображение постоянно приходит мне на помощь в трудные минуты – так уж я устроен. Когда скверно на душе, я ищу проблесков надежды; когда же совсем скверно, то есть когда переступил какую-то черту, то тут уж никаких проблесков не ищешь; наоборот, стараешься представить себе все в самом мрачном свете. И тогда, неожиданно, на тебя нисходит этакое бодрое, почти радостное отчаяние. Черт возьми! – говорю я себе тогда. – Провались мы со всей нашей землей, городами и этими скучными людьми, обманывающими себя призраком выдуманного счастья! Любая беда застает их врасплох, потому что они живут как бараны, не подозревая, какая бессмыслица заключена в их прозябании! – Я перебираю в памяти все, что по этому поводу читал или слышал, передо мной проходят сумрачные тени людей великих, чье величье не спасло их, однако, от общего рокового конца. Иногда я ловлю себя на хитрой мысли: вот, они были, а я есмь! Я – реальность, минутная, а все же реальность! И тогда я преисполняюсь чувством снисходительного превосходства, с каким живой человек смотрит на покойника.
Я подошел к окну и поднял штору. Тут же пожалел: на меня глянуло хмурое небо, а с него опускалась мелкая как пыль морось. Два голубя, сидевшие нахохлившись на подоконнике, обеспокоенные моим появлением, встрепенулись и, не скрывая своего недовольства, нервно забегали взад и вперед, выкрикивая по моему адресу что-то нелестное. Затем спикировали вниз навстречу блестящим крышам.
Скверно! – подумал я, представив себе мокрую, грязную станцию сабвея, зонты, плащи, раздраженные лица пассажиров и дурные запахи, прочно осевшие в подземелье. Но выбора не было; я побрился, позавтракал и только тогда сообразил, что у меня в запасе час времени.
Можно было бы заняться делами, но какие у меня дела? Это у людей серьезных, положительных бывают дела, а таким, как я, только и остается, что придумывать – чем бы заполнить постоянную пустоту.