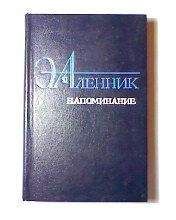— Во имя будущих карапузов ты и возвращаешь мне деньги обратно? пыталась пошутить Варвара Васильевна.
— Во имя приятного ощущения самостоятельности, — сказал Саня.
— Слишком ты рано…
— Наоборот, запаздываю. Давно пора прекратить соучастие в беспощадном грабеже.
— Боже, что за слова ты употребляешь! Мы достаточно себе оставляем.
— И у меня достаточно. У нас теперь студенческая артель, ты знаешь, я писал.
— Но что за артель? Что вы делаете?
— Чистим по ночам на фабрике трансмиссии. За это очень хорошо платят.
— А сколько там пыли и грязи?!
— Не скрою, мы выходим на улицу похожие на выскочивших из дымохода чертей. Но знаешь, куда мы прежде всего направляем наши стопы? В баню. Ранним утром там нет очереди. Там просторно. Мы моемся, как восточные цари. Выходим чище вынутых из купели младенцев. Настроение у нас лучезарное. Аппетит — троглодитов. И после его утоления есть время выспаться до наших вечерних лекций и позаниматься в Публичке.
— Разрисована картина, но недорисована. Ты недосказал, что при первом же заработке так поторопился отослать мне деньги и по другой причине… той самой.
Ты даже не представляешь, насколько обманчивой!
Нет, он кое-что начал представлять. Возникали какието дни, какие-то слова и движения прежней, молодой мамы. Задним числом он отмечал в них не отмеченное в детстве. Но относил это к ее угрызениям совести за слишком большой перевес в сторону Ани.
И перед Варварой Васильевной возникали какие-то дни. По всей вероятности, другие, когда она ловила себя на большем притяжении к сыну, чем к дочери. А если совсем по правде, признавалась она себе, так было не в отдельные дни. Он всегда был ей ближе, был дороже.
И потому она больше голубила Аню.
Варвара Васильевна решилась это разъяснить, сказать то, о чем ему не догадаться. Но что-то в ней сопротивлялось.
Она торопилась сказать, уверенная, что теперь сын поймет и обрадуется тому, что понял. А все ее существо стеснялось, съеживалось — она сама ощущала, как посмешному, по-девичьи глупо.
И этой девичьей глупости сорока-с-лишним-летний, не девичий ум Варвары Васильевны преодолеть не мог.
Она сидела, смотрела мимо Сани на темнеющее окно и маялась.
Только много лет спустя она отважилась написать об этом Саниной жене, но было уже непоправимо поздно.
Писала она, доживая свои дни в Ташкенте у дочери.
Обувь у нее была отнята, «чтобы не выползала за калитку», и мало было надежды, что кто-нибудь опустит в ящик ее письмо. Она стала сухонькой, почти невесомой.
Последние силы уходили на то, чтобы внушить внукам, что надо учиться и надо быть честными. За это младший внук, красавец Валерик, хватал ее и с хохотом вертел вокруг себя…
Но сейчас она была еще красивая, женственная, смотрела в темнеющее окно с наростом ледяных колючек внизу — электрические обогреватели растапливали пушистый иней на стеклах, он таял, стекал вниз и превращался в ледяные колючки.
Малиновым звоном прозвенело шесть часов. А она все еще сидела и маялась. Комнату наполняла тихая напряженность недоговоренности.
— Ладно, да будет мир, — сказал Саня и поставил перед Варварой Васильевной фигурку из хлебного мякиша, весьма странную: у нее была собачья голова, а торс и ноги тоненького, длинненького человечка. Но он не валился. Он стоял и стоял.
Алексея Платоновича встречали Саня и молодой хирург Николай Николаевич Бобренок, подоспевший к поезду в старенькой карете «скорой помощи», не годной уже для перевозки больных, но годной еще для встреч и проводов здоровых. Впрочем, на этот раз она доставляла с вокзала в клинику ящик с новыми больными — белыми мышками после сделанной им в Москве раковой прививки. Но сначала завезла домой Алексея Платоновича.
С лестницы до Варвары Васильевны донесся раскатистый смех, потом голос мужа:
— По этим признакам, вероятнее всего, у этой дамы не болезнь Паркинсона, а не менее страшная болезнь — лень-кин-сона.
— Завтра посмотрите? — голос потише, Бобренка, уже у самой двери.
Мгновенный поворот ключа. Дверь распахивается.
И — разом исчезают жившие в квартире весь день полутона, полуоттенки. Все заполняется цельным, ясным напором жизненной силы.
Алексей Платонович деликатно-быстро, даже как-то воздушно при его невоздушной комплекции, прикладывается к лицу жены, потом не так быстро целует ей руку, и замечает, что Николай Николаевич Бобренок не входит, а тихонько закрывает за собой дверь с той стороны.
— Куда вы, такой-сякой! Не попрощался, не поздоровался.
Бобренок, огромная, светлоголовая глыба нетронутой природы, сняв шапку, переступает порог, чтобы поздороваться с Варварой Васильевной и тут же проститься.
— Вам, Николай Николаевич, всегда рада. По правде сказать, я боялась нашествия.
— Откуда? Этот хитрец Бобрище объявил, что буду завтра утром.
— В клинике и будешь утром, — сказал Саня.
— Да, ни слова неправды, — благодарно подтвердила Варвара Васильевна и тепло добавила: — Снимите свой полушубок, посидите с нами часок.
— Отдыхайте, — ответил Бобренок строго и не остался ни на часок, ни на минуту.
— Он мне все больше нравится, — сказала Варвара Васильевна.
— Тем, что быстро уходит? — весело поддел Саня.
— Да. Это тоже признак душевного такта. Алеша, теплая вода для головы в ванной, в тазу. Она стынет.
Он ежедневно утром и вечером мыл или ополаскивал голову. И рекомендовал это делать всем, кому не жалко волос, а жалко нераскрытых пор, убавляющих приток свежести, весьма необходимый нашему разуму.
Шутя или не шутя он так рекомендовал — трудно было понять. Но своих волос он явно не жалел, и ото лба к макушке его крупной русой головы раньше времени пробиралась и сверкала свеженамытая лысина.
Из холодной, неотапливаемой ванной он вышел переодетым в домашнее теплое, примерно такое же, как у Сани, и первым делом разложил на своем столе привезенные иностранные медицинские журналы, книги и какието бумаги. Затем преподнес своей Вареньке любимого ею Тютчева в прекрасном старинном издании, а сыну вручил тяжеленный перочинный ножик с невероятным количеством приспособлений на все случаи жизни. И пока Варвара Васильевна в кухне подогревала блюдо и перекладывала на блюдо из духовки утку с яблоками, они оба с превеликим интересом испытывали качество этих приспособлений на откупоривании бутылки узбекского вина — прислал Авет Андреевич, на резке хлеба, на колке сахара, на протыкании сапожным шилом дырки в ремне, для чего Сане пришлось поднять свитер и вытащить конец своего пояса. Безусловно, они многое бы еще проверили, но в дверях показалась золотистая утка на блюде.
Что говорить, она была божественного вкуса. Вкуса, вызывающего не слова, а стоны одобрения, похожие на мычание. Даже самодельное вино Авета Андреевича уступало букету из аромата антоновских яблок и яблочно-утиных соков, сбереженных под нежной, золотистой корочкой.
Беседа шла сбивчиво-перебивчиво. На этот раз Алексей Платонович больше расспрашивал. И когда узнал, что Саня намерен писать сценарии и ставить фильмы, что на его факультете уже организована кино-творческая ассоциация, куда вошло семь человек, и приглашен кинооператор-дипломант, и они готовятся летом приступить к съемкам своих первых короткометражных картин, — Алексей Платонович (после страдальческого восклицания мамы: «Значит, летом мы тебя не увидим!») потребовал от сына:
— Ты непременно должен снять фильм об Игнаце Земмельвейсе. Восемьдесят лет назад, работая в Вене, он первым предложил асептику и начал дезинфицировать хлорной водой руки и родовые пути, спасая рожающих от заражения крови. Это полезнейшее из открытий признали бредом. Земмельвейс долго, упорно пытался доказать его очевидную пользу и в конце концов попал в сумасшедший дом. Этот человек умер от заражения крови, всеми забытый, нищий, в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году. Через два года после его смерти, не зная ни о нем, ни о его открытии, английский хирург Листер предложил антисептический метод лечения ран, чем и прославился на весь мир. Ибо этот мир устроен так, что первые открыватели и открытая ими истина нередко объявляются сумасшедшими.
Похоже было, что Варвара Васильевна уже слышала о Земмельвейсе, а на Саню только что услышанное произвело впечатление, особенно последние слова отца, словно бы приложенные и к себе. Наверняка он предложил что-нибудь новое этому онкологическому собранию и получил полный афронт.
— Так даешь обещание открыть людям правду?
— Папа, настоящее искусство этим и занимается. Но Земмельвейс нам не под силу. Нет у нас пока возможности воссоздать обстановку того времени строить декорации, шить костюмы. Средств нам не дают. Дали бесплатно немного пленки. Так немного, что мы не сможем снимать дубли…