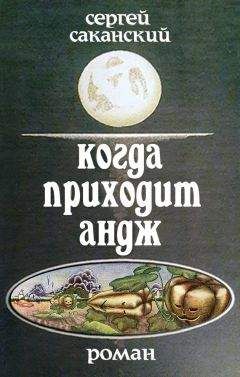Ознакомительная версия.
Анжела сидела на кровати, обхватив колени. В комнате дурно пахло. Мэл закурил и украдкой вытерся.
— Кто же тогда сегодня ночевал у меня? — продолжил он, с шумом выпустив дым сквозь сжатые губы.
— По-моему, мы с тобой сегодня ночевали вместе… Ах, ты опять об этом? — Анжела беспокойно посмотрела.
— Анжелла, — тихо сказал Мэл, подумав, что, наверно, в третий, или даже второй раз за эти десять дней называет ее по имени, поэтому неуверенно употребил двойное, если даже не тройное «л», — не приходи больше сюда… Точка.
— Точка? — растерянно спросила Анжела.
— Точка, — уже спокойно подтвердил Мэл.
Она демонстративно забычковала свою сигарету, стала медленно одеваться. Мэл подумал: неужели вот так правда уйдет, без истерик? — он с любопытством смотрел, как девушка застегнула свой черный лифчик, нетерпеливо с гримаской дернувшись, когда крючок сразу не попал в гнездо, как она с синтетическим потрескиванием, шорохом да искрами натянула через голову юбку и широко расправила ее, деловито убрала спереди назад и бросила (ладно, если сама прибежит — приму) тяжелые волосы, светлые — даже в этой темноте… Мэл, в общем-то больше любил темных женщин.
Двигаясь к двери, она проговорила с деланным безразличием: точка так точка.
Оставшись один, Мэл присел на полусогнутых ногах и потер ладонями, глядя, как в зеркале приседает и потирает ладонями голый бледный человек.
Мэл надел на два пальца пустую пачку «Явы», помахал, смял и зашвырнул в угол. Он оделся, намереваясь стрельнуть у соседей, но тут увидел на столе сиротливую папиросу, выпавшую из портсигара Анджа. Если Анжела действительно лишь вообразила себе старшего брата (подобное нередко бывает у восторженных дур) то, кем бы ни был этот человек, он имел какие-то цели, затевая свою игру. А вдруг он сумасшедший, подумал Мэл. Он смутно представлял себе, что это такое. Сумасшедшего он изобразил белой конвульсивной фигурой в дверном проеме, или тупой зобатой головой — слюна течет из уголка рта, бегают зрачки…
— Но ведь сумасшедший совсем не такой, — вдруг, как бы отшатнувшись, подумал Мэл. — У него нормальная внешность, он приходит и внимательно смотрит, сглатывая слюну, он вынашивает огромные жестокие идеи и время от времени действует. Иногда он действует только раз в жизни, далее гибнет или навсегда уходит в дурдом, и потому идея может быть беспредельной по замыслу, и он не боится расплаты, поскольку принимает ее как необходимость.
Мэл силился вспомнить, как выглядит Андж, но видел лишь гладкий эллипсоид головы, хотя плохое зрение научило его цепкой визуальной памяти… Но ведь должен же он как-то выглядеть, у него есть рот, нос, глаза — и Мэл представил себе глаза… Внешность не воссоздавалась, это был все тот же голый желтоватый овал, в котором при словах глаза, рот, появлялись зияющие черные дыры.
Вдруг он заметил ленточку для волос, забытую ушедшей, и поднял ее — странного она была цвета, темнокрасного до черноты, однако, на сгибах обманчиво загоралась золотом, он задумчиво сжимал ее, любовался переливами червонных волокон, понимая, что цвет лишь взаимодействует с лампой, затем скомкал ленту и с наслаждением затянулся живичным запахом волос, внезапно сильное желание овладело им и он испугался боли, поглядел по сторонам, словно ища, на что переключиться, и жадно вдохнул дым, усилием воли стараясь перевести воображаемый шар из паха в голову, выплюнуть через рот… Словно шаровая молния, сгусток медленно проплыл по комнате и всосался в лампу, но сразу внизу живота стал вращаться новый, пока еще маленький шар. Мэл выпустил его через задний проход, и тот, колыхаясь, был притянут трубой отопления, но во чреве уже созревала свежая горячая капля…
В какой-то момент он увидел, что табачный дым тонко струится волокнистой линией, и понял, что рука дрожит. Он почувствовал озноб и приложил ладонь ко лбу, подумал, что температуру лучше всего мерить устами, как это делала мама, и рассмеялся, представив, как он трогает устами свой собственный лоб. Он прислушался к себе, услышал, как стучит сердце, движется кровь, бурлит в желудке, вращается шар… Вдруг он понял, что эти звуки внешние, проникающие через стены, он хорошо знал, кто находится за стенами, ясно видел этих людей, в часы, когда он приводил женщин, приникавших ушами к стенам, полу и потолку, обкладывая его со всех сторон. Две пары ног на частых каблуках шли по коридору наверху, в туалете на этаже разноголосо настраивались унитазы, он ощущал все это двадцатипятиэтажное звездообразное здание так ясно, будто оно находилось внутри его головы.
Папироса потухла, как всегда эти грубые, чем угодно, только не табаком, набитые беломорины, и он снова поднес к лицу хрустящее пламя, которое было прозрачным и водянистым, сквозь него он видел солнечный лик Анжелы, уходя, девочка все-таки умудрилась засунуть свою фотографию в щель между стеклами книжной полки, он взял ее, недолго рассматривал огромные серые, немного разные глаза, явно пораженные базедовой болезнью, усталое круглое лицо луны, покоящееся на руке с папиросой (поза Цветаевой) мизинец зацепил нижнюю губу, почти с намерением сделать «п-пру», ноздри раздуты, принюхиваясь — вероятно, клубящийся запах хмеля (задний план, Ялта) или запах мужчины, который в тот момент нажимал на курок, и родинки (радуйся, это ты) рассыпанные в комбинации созвездия Журавля.
Радуйся, ему стало не по себе, он перевернул портрет, шлепком его накрыв и — о ужас — сквозь пальцы увидел, что фотография двусторонняя, и пальцы показали, что половина лица смеется, а половина грустит, трагически… Боже, мыслимо ли так виртуозно владеть лицом?
Он присмотрелся и снова перевернул чуть выпуклый кусок картона: на его гранях были две совершенно разные Анжелы, хотя ясно было, что обе стороны напечатаны с одного и того же негатива: одна манерно грустила, другая искренне улыбалась, обнажая чудесные влажные зубы с тонким волоском слюны; одна смотрела равнодушно, словно за видоискателем не видела живого глаза, другая светилась восторгом, в остановленном кивке смазывая пламя волос; одна была немного старше другой.
Он подвигал фотографию вправо-влево, будто по стеклу, и убедился, что согласно свойству прямосмотрящих портретов, глаза Анжелы следят за ним. Он разорвал фотографию на множество кусков, их число с каждым жестом возводилось в квадрат, и представил, что рвет не изображение, но само лицо и кожу своей бывшей возлюбленной.
Тупо уставившись на опавшие лепестки (левый глаз, два зуба, ноздря) и пытаясь сосчитать их, он понял: с ним стряслось нечто ужасное, ему снова стало ясно, что он болен, и как-то непоправимо болен, то есть, его состояние и есть приход смерти, а это действительно можно испытать только раз в жизни, и не расскажешь этого другим…
Он увидел под столом, что ось магнитофона все еще крутится, он перемотал и тихо прослушал шорох одежды, стоны шепотом и неравномерные толчки, на несколько секунд распахнутую дверь, затем разговор (Кто сегодня ночевал у меня — мы ночевали вместе — Анжелла, точка — не надо сейчас…)
Далее следовали непонятные звуки, вот вроде чиркнула спичка, потом его собственный голос прошептал: сумасшедший… Не боится расплаты… Золотая лампа… Нет, никогда, никогда…
Вдруг он представил белую статуэтку человечка, руки по швам, медленными параболами перемещается по кровати и стулу на пол. Усилием зрения он с неистовой силой швырнул человечка за окно, под фундамент соседнего дома…
Тут его привлекли семечки, он стал их грызть и грыз до тех пор, пока не заболел язык.
Какое-то время он видел в воздухе розовую летающую моль и не мог определить, реальность это или галлюцинация…
И вдруг он понял, что сейчас откроется дверь и случится необратимое… Дверь беззвучно открылась и Андж вошел. Лица его не было видно, поскольку на голову он надел белую тыкву с выдолбленными чертами мерзкой маски. Я предупреждал тебя. Оказывается, ты и вправду был с ней в последний раз, — глухой голос, чувствовалось, что Анджу было душно и темно в тыкве. Мэл проследил за движением его правой руки, краем глаза отметив, что Андж повторил это движение в зеркале, и вдруг понял: все это на самом деле происходит… Мэл оглядел себя и увидел, насколько он мал и худ. Вверх-вниз, прицеливаясь, закачался пистолет, который должен был выстрелить, если уж появился.
Это был Лешка, никто иной как ялтинский Лешка, человек, который назвался братом Анжелы, был Лешка — нечто подобное сказали бы в старом добром романе…
Незадолго перед тем с ним произошла странная история, в Ялте, зимой. После школы он пошел работать грузчиком на хлебкомбинат, две комнаты, оставшиеся ему от родителей, он стал сдавать курортникам, а сам перебрался в сарай Анжелы, с согласия ее матери. На жизнь всех этих денег ему вполне хватало. Жизнь, как известно, в курортном городе дорогая: обед в кафе, ужин в ресторане, легкое вино, такси…
Ознакомительная версия.