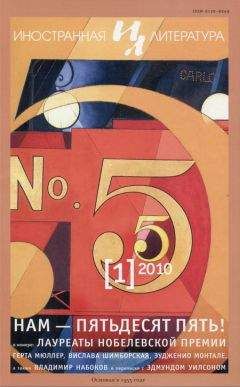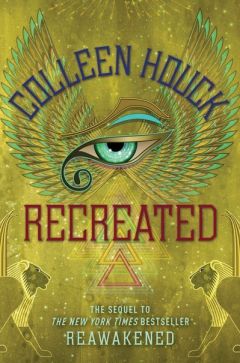Тому, кто родился в 1949-м, это слово приносит дополнительные трудности. Стареть очень неклево. Складки и морщины очень неклевы. Дома с видом на закат настолько неклевы.
* * *
Его занимали другие мысли, но он все думал о встрече с первой женой — в пабе под названием «Книга и Библия». Ох и заплатил же он за все, за лето 70-го. Ох и заплатил же.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Невероятно худеющий человек
— Амин, — сказал Уиттэкер, — понимает, что такое приятельство. Он понимает, что такое послеобеденный секс с незнакомцем. Но любовных связей он не понимает.
— Ну, это дело щекотливое, — заметил Кит. — Любовные связи.
— Среди пидоров я — чудик. Мне хочется моногамного сожительства. На манер гетеросеков. Спокойный ужин. Секс через день. А Амин… Амин говорит, что спать с одним и тем же человеком дважды — о таком даже помыслить нельзя. Так что, как видишь, наши взгляды слегка расходятся.
— Я то и дело замечаю его на террасе, — сказал Кит. — Подбирается к нам потихоньку. Что происходит? Неужели он наконец начинает примиряться с Шехерезадиными грудями?
— Нет. Отнюдь. На самом деле, стало еще хуже. Но он готов рискнуть увидеть Шехерезадины груди ради Адриано.
— …Амину нравится Адриано. — Кит закурил. Сначала — самодовольное бульканье лягушек; теперь — воцарившийся невроз цикад…
— Он ему не то чтобы нравится. Как ты изволил очаровательно выразиться. Он восхищается им как образцом. Я тоже. Адриано в некотором роде идеал.
— М-м. Что ж, он для этого хорошенько потрудился.
— Наверное, для них для всех это обычное дело. Для маленьких людей. Выше сделаться они не могут. Вот и делаются шире… Мне все кажется, будто я смотрю «Невероятно худеющего человека»[40]. Примерно на том месте, где он начинает кошки бояться.
— А в начале, помнишь, когда он подходит поцеловать жену, а она теперь выше его.
— М-м. Говорят, «Невероятно худеющий человек» — тревожный сон о том, как у людей встает по-американски. Потенция. Женщины захватывают власть.
Они продолжали игру: размен, упрощение.
— О'кей, — сказал Уиттэкер. — Тот голубой поэт — насколько он был голубой?
— Насколько голубой? В общем, Николас сказал, он явно голубой. Явно голубой и доволен этим.
— М-м-хм. А голубая колоратура у него есть? Такая протяжная певучесть. Как у меня.
— Не знаю. Пидорский акцент…
— Пидорский акцент — дело нехитрое. Не забывай, что наших милашек только-только узаконили. Нам необходим пидорский акцент. Чтобы другим пидорам все было ясно. Значит, так: Вайолет. Она не агрессивная?
— Абсолютно. В смысле, как она в постели, я не знаю. — И он принял тяжкое решение спросить об этом Кенрика, если и когда Кенрик приедет. — А так — абсолютно нет.
— «Низкая самооценка». Вот что сказал бы профессионал. Она идет кратчайшим путем в поисках уверенности. Да ты все это и сам знаешь. Но так накинуться на педика… Прости. Буду дальше об этом думать. Только я все время попадаю в тупик.
— Вот и я в него все время попадаю. Ничья? Слишком уж на этой доске тихо.
— Ага. Играем мы не очень. А почему? — Он поднял глаза — его роговая оправа была полна изогнутого света. — Потому что оба влюблены. Ничего другого не осталось.
— Не уверен, что я влюблен. Что это вообще такое, — любовь? «Ты влюблен».
— Да, я влюблен. Амин, когда играет, — он зверь. Фигуры разбивает. Амин точно не влюблен.
Безумное, щелкающее хихиканье цикад — вот, значит, как смеются насекомые?
— Амин в саду, — сказал Кит. — Он мне напоминает Багиру из «Книги джунглей». Пантеру. Смотрит беспокойно сквозь листья. Держит Маугли под контролем.
— Ну, если он Багира, то ты Бемби. Когда на Шехерезаду глазеешь. Нет. Ты — леди, которая глазеет на бродягу.
— «Леди и бродяга». Помнишь их первое свидание — итальянский ресторан? Ужин на двоих в итальянском ресторане.
— Не очень-то типичное первое свидание для собак. Потом леди и бродяга идут и глазеют на луну. Не воют, просто глазеют… Хочу тебе дать отеческий совет. Когда ты глазеешь на нее за ужином, у тебя глаза влажнеют. А вид такой, будто тебя надули. Поосторожней с этим.
— Это еще ничего, — сказал Кит. — В детстве, когда западал на кого-нибудь, я, бывало, так заводился, что ложился в постель. Учителя заходили проведать, а мать все время за мной ухаживала. Это еще ничего.
— А я думал… разве приемные дети не должны с осторожностью относиться к любви?
— Ну да, обычно так и есть. Но ко мне рано пришел успех, с Вайолет. И я, видно, решил — ну, не знаю, решил, видно, что могу заставить девушек влюбиться в меня. Мне нужно только полюбить их, и они полюбят меня в ответ… Шехерезада — это так, ничего. Я просто восхищаюсь ею издали.
— Смотри на вещи оптимистически. — При этих словах губы Уиттэкера изогнулись в жестокой усмешке. — Она лучшая подруга Лили. Так что Лили, по крайней мере, возражать не будет.
Кит кашлянул.
— Из лучших подруг Лили она на втором месте. Есть еще Белинда. Та в Дублине. Вообще, все это из области теории. Но Шехерезада — вторая среди лучших подруг Лили.
Амин, как сообщили Киту, снова ехал в автобусе. Двигался, охваченный яростью, по направлению к Неаполю. Он совсем исстрадался по поводу своей сестры. Да и как было не исстрадаться? До него дошли слухи, что Руаа иногда развязывает платок на рынке, открывая взорам рот и прядь волос на лбу.
— Еще раз так пойдешь, и все, — сказал Уиттэкер.
— Хорошо. Пат.
— Э, нет. Пат — это в эндшпиле. Когда королю ходить некуда — только под шах. Это просто вечный шах.
Попытаться надо, думал Кит. Вечный шах — такого нам не надо. Они над тобой смеются, цикады, сумасшедшие ученые-лилипуты в саду. Над тобой смеются желтые птицы. Когда у девушки внешность Шехерезады, притом ей невтерпеж, надо как минимум попытаться.
— Значит, ты не спишь, не ешь, — сказала ему Лили. — Чахнешь, да и только.
В конце, разумеется, невероятно худеющий человек, пережив кошку и паука, просто делается все меньше и меньше, а потом убредает прочь — в субатомный космос.
* * *
— Так что, Уна? — сказала Лили. — Как вам кажется? Завоюет Адриано сердце Шехерезады?
— Адриано?
Тема разговора сменилась. Уна сидела, правила корректуры за убранным обеденным столом, причем относилась она к этому серьезно (пользовалась руководством по оформлению, словарем и стопкой дневников и фотографий). Ее тетя по материнской линии, Бетти, недавно, перед тем как умереть, закончила мемуары; Уна готовила их к публикации — для «библиотеки тщеславия», как она говорила. Оказалось, однако, что старушке Бетти было чем похвастаться: покровительница сочинительского искусства, путешественница, искательница эротических приключений. Кит успел провести за этими мемуарами полчаса, изучая жизнь и времена Бетти. Яхты, дьявольские разводы, магнаты, пьяные гении, автокатастрофы, стратосферные, усыпанные звездами самоубийства… Уиттэкер с Шехерезадой были в ближайшей приемной, играли в нарды, чрезвычайно буйно (в ход часто шел куб удвоения), ставка — одна лира. Адриано в общество не входил — его отозвали к какой-то новой смертельной ловушке (включавшей в себя то ли пещеры, то ли парашюты). Уна, у которой были самые опытные глаза, когда-либо виденные Китом, произнесла, тщательно подбирая слова:
— Что ж, он, Адриано, очень увлечен. И настойчив. А настойчивость производит впечатление на нас, женщин. Но он зря теряет время.
А Лили спросила:
— Потому что он слишком, э-э, миниатюрный?
— Нет. К этому она могла бы даже отнестись благосклонно. С ее-то мягким сердцем. Что ее оскорбляет, так это итальянская страсть к излишествам. Слишком театрально. Она говорит, Тимми необходимо проучить. И все же Тимми она простит. Времена меняются, но характеры остаются теми же, а это не в ее характере. Вот в моем характере это было. Я-то знаю. Кит, милый, каково литературное значение слова «пандемониум»? Как «пантеон», только противоположное?
За ужином Кит сделал над собой усилие, чтобы не глазеть на Шехерезаду, и удивился, как просто это оказалось, а также удивился, как учтиво он ведет неторопливую беседу, отпускает остроты, умело орудует тем и сем. Пока не взял и не бросил взгляд искоса. Ее лицо уже сосредоточилось на его лице: немигающее, заведомо особое, как всегда, заведомо индивидуальное и (подумалось ему) спокойно вопрошающее. Рот — в форме нацеленного лука. И с того момента до самого конца не глазеть на нее стало самым обременительным делом из всех, что он когда-либо предпринимал. Как отказать себе в том, что составляет суть жизни? Когда оно — вот, перед тобой. Как это сделать? Наконец он сказал: