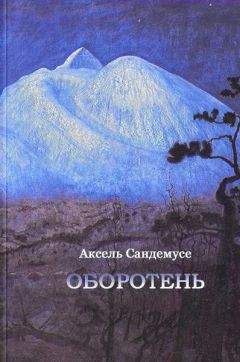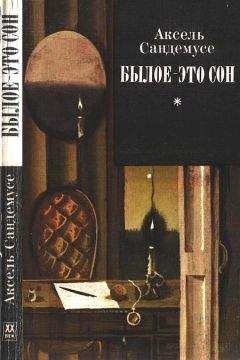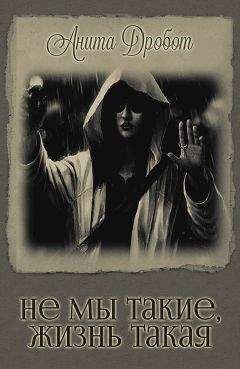Летними вечерами в Эрлингвике плескалась рыба, с наступлением темноты начинали плавать бобры. Куница, притаившись на ветке, подстерегала добычу. По берегу бродила важная трясогузка, улизнувшая от ястреба-перепелятника, — хватит с тебя зябликов и малиновок, дружок, я не для таких, как ты. Утки сделали круг, прежде чем опустились на воду, они чутко прислушивались и смотрели по сторонам, а потом вдоль горной стены, отвесно вставшей над водой, поплыли к берегу посмотреть, не найдется ли там сегодня чего-нибудь съедобного.
Эрлингвик был небольшой, даже в самом широком месте сильный человек мог легко перебросить через него камень. И вместе с тем он представлял собой уменьшенную Норвегию. Кусочек ровного берега. Несколько островков. Горная стена, отвесно вставшая над водой. На склоне росли береза, ольха, осина и клены, а также сосна, ель, вереск и полевые цветы. В уголке залива, куда не попадало солнце, в горе была пещера, запертые в ней волны бормотали глухо и грозно даже в тихую погоду. Хотя над самим Эрлингвиком всегда стояла тишина и, казалось, здесь никогда не было ни людей, ни животных, никогда не пролетали птицы, здесь вообще не было ничего, кроме того, что поселяла там фантазия Эрлинга, но только Богу было разрешено знать об этом. Может быть, туда когда-нибудь снова приплывет какой-нибудь человек и, почувствовав под ногами дно, выйдет на берег в своей тяжелой от воды одежде.
Кем бы ты стала, Фелисия, будь у тебя другое имя, к примеру, Хансигне или Лене? Как бы я без своего имени придумал себе Эрлингвик? Человек соответствует своему имени, и мы иногда с удивлением констатируем, что у того или иного человека и не могло быть другого имени. Правда, мы быстро отгоняем от себя эту смешную мысль — ведь имя появляется у человека только после рождения. Имя — это последний штрих, нельзя же позволять людям оставаться безымянными, как нельзя согласиться и с тем, что каждый человек соответствует своему имени. Если кто-то попадет под трамвай, мы по-разному отнесемся к его гибели в зависимости от того, какое имя было написано на приклеенной к нему бирке, даже если погибший не имел к нам никакого отношения. Девочка по имени Улава никогда не станет выдающейся личностью. Эрлинг был уверен, что Фелисия не могла случайно оказаться Марией, а он — Вальдемаром. Он умолкал и задумывался, вспоминая иногда об этом словно растворившемся в воздухе Вальдемаре, — кем бы мог стать этот Вальдемар Вик? Во всяком случае, вряд ли он сидел бы сейчас здесь на месте Эрлинга Вика.
Фелисия или Мария? Ян или, к примеру, Петтер? Мария и Петтер. Вполне возможно, что тот Петтер никогда не женился бы на той Марии, которой могла бы быть Фелисия. Сам Эрлинг и та женщина, которую звали бы не Фелисией, никогда не пережили бы тех ночей в Старом Венхауге — он знал это, потому что обратил внимание на имя еще до того, как заметил саму девушку. Они с Яном под другими именами никогда бы не стали друзьями, и их дружба не выдержала бы испытания временем. Эта воображаемая Мария не могла бы быть той Фелисией Ормсунд, к которой Ян так старомодно и торжественно (милый Ян!) посватался в Стокгольме и от которой на другой день получил не совсем обычный ответ: Да, я выйду за тебя замуж, ты мне нравишься, и я знаю, что ты добр, но не простодушен, однако ты должен знать, что я люблю также и Эрлинга, а иногда мне кажется, что еще больше я люблю Стейнгрима.
Такой строгий консерватор, как Ян, должен радоваться, что судьба подарила ему имя, помогающее своему носителю в любой ситуации. Правда, Ян даже сел от неожиданности, услыхав мой ответ, рассказывала потом Фелисия, но этим все и ограничилось. Он посмотрел на меня глазами верного пса и сказал: Я согласен, но ты всегда должна предупреждать меня обо всем, с чем мне придется столкнуться, обмана я не потерплю. Так же как никогда не терпел предателей и всех, кто нападает сзади. Вот тогда я за себя не отвечаю.
И Ян, и Фелисия были с ним в Эрлингвике, но не знали об этом. Был там также — и остался уже навсегда — и покойный Стейнгрим.
Ночью Эрлинг услыхал, что поднялся ветер. Он оторвался от своих записей и прислушался. 10 августа 1957 года, два часа пополуночи, в сводке погоды ночью обещали дождь, сильный дождь. Ночью ожидаются большие осадки. Было душно. Шорох листвы за окном подчеркивал тишину в доме. Эрлинг встал и прошелся по комнате — восемь метров в длину, семь — в ширину, потолок был низкий, но человек среднего роста не задевал балок головой. Стены были сложены из толстых сосновых бревен. Эрлинг недавно собственноручно обтесал их и покрыл лаком. В комнате еще пахло смолой и олифой. Пол тоже был сосновый, раньше половые доски были шаткие и неровные, на них легко было споткнуться, и мыть такой пол было трудно. Фелисия ворчала, когда, приезжая к нему, наводила в доме порядок. Он каждый раз просил ее не мыть у него пол, но кто бы мог заставить Фелисию отказаться от своего намерения? Эрлинг вспомнил тот вечер в начале мая семь лет назад, когда Фелисия приехала сюда, чтобы встретить его после долгой разлуки, — она тогда обнаружила и обследовала его тайник. Они никогда не говорили об этом, но он знал, что это была она. Другой на ее месте непременно украл бы виски, а может, и записи, чтобы потом познакомиться с ними в более удобном месте и выбросить. Фелисия не была столь наивна, чтобы, даже по рассеянности, забыть о том, что он может заметить ее вторжение. Открыв тайник, он мгновенно обнаружил, что в нем кто-то побывал, но он не любил припирать к стенке своих друзей.
Эрлинг поинтересовался, сколько стоят нужные ему доски для пола, они были дорогие, и к тому же достать их было трудно. В лесах уже почти не осталось подходящих деревьев. Как выглядят половые доски, одинаково с обеих сторон или с нижней стороны они круглые, как бревна? Эрлинг потратил целую ночь, чтобы поднять одну доску. Она была крепкая, но необструганная. Целую неделю он поднимал доску за доской. Все они были безупречные. По просьбе Эрлинга плотник обстругал их. И Эрлинг полюбил свой дом еще больше.
Начался дождь. Эрлинг слушал его добрый шум и уже в который раз думал о сущности человека. Воспоминание об одной встрече в Стокгольме вызвало в нем тревогу. Саблезубый кот…
Потом его мысли перешли к тому, что случилось сегодня вечером. Часов в семь или в восемь к нему постучали. Эрлинг крикнул: «Войдите!» — потому что ждал девочку, которая приносила ему молоко, девочка смело заходила в дом, и избавиться потом от нее было не так-то просто. Со стариковской мудростью она расспрашивала Эрлинга о его жизни. Но на сей раз пришла не девочка, а незнакомый мужчина, который тут же обиделся, что его не узнали. Эрлинг обычно называл себя, если ему случалось прийти к людям, которых он встречал мимоходом или очень давно, и его всегда раздражало, если кто-то начинал играть с ним в угадалки. Словно кто-то подсовывал ему под дверь бумажку с параметрами своей души. Как бы там ни было, глядя на своего гостя, Эрлинг довольно грубо сказал:
— Не имею понятия, кто вы, и не намерен отгадывать ваши загадки.
Гость исподлобья, по-собачьи, с затаенной ненавистью смотрел на Эрлинга. Он и в самом деле был похож на собаку.
— Да нет же, вы меня прекрасно знаете, — проговорил он.
Эрлинг шагнул к нему, и тот отступил к двери.
— Я думал, вы узнаете старого знакомого. — В его голосе звучало подобострастие. — Я Турвалд Эрье.
Турвалд Эрье? Эрлинг тут же вспомнил этого человека. Он бы и сам узнал его, если б мысль о том, что Турвалд Эрье осмелится явиться к нему собственной персоной, не была столь нелепа сама по себе. Сколько же лет прошло с той поры? Да, в конце сентября будет шестнадцать. Эрлинг внимательно разглядывал Турвалда Эрье, жизнь обошлась с ним довольно круто, его тонкая шея и собачья голова внушали Эрлингу отвращение. Турвалд Эрье никогда не интересовал его, но теперь он чувствовал, как в нем закипает гнев — примитивная злость, вызванная тем, что этот глупый человек нарушил его покой в его же собственном доме.
Теперь он вспомнил все, что было связано с Турвалдом Эрье — бывает, воспоминания возникают мгновенно и не мысленно, а зрительно, словно пейзаж, мелькнувший за окном поезда. Двадцать лет назад он оскорбил Турвалда Эрье самим фактом своего существования на свете, но каким образом, так и не понял. Этот слабый, ленивый человек был юрист, но никогда не работал по специальности. Почему-то он вбил себе в голову, что рожден журналистом. Его всегда можно было увидеть в приемной той или другой газеты, чаще всего имевших отношение к Рабочей партии, где он ждал аудиенции, которой так и не получал. Иного пути в журналистику он не знал. Он сидел, тянул себя за мочку уха — он проделывал это и сейчас, стоя перед Эрлингом, — и мирился с тем, что его не замечают, презирают и оскорбляют. Он только моргал и тянул себя за ухо. Уже на другой день после прихода немцев Турвалд Эрье терзал свое ухо совсем в других приемных, где его тоже оскорбляли. В начале оккупации старые члены Нашунал Самлинг[7] еще свысока относились ко всем новообращенным (потом, правда, пришло и такое время, когда они стали уговаривать, просить и угрожать). В конце концов норвежские нацисты явили Турвалду Эрье свою милость. Поскольку его перо было непригодно к употреблению, они сделали Эрье полицмейстером, однако им пришлось не один раз переводить его с места на место. Наконец он получил пост полицмейстера в Усе. Пока он сидел там на севере, все о нем забыли. Даже Эрлинг не знал, что бестолковый и вечно полупьяный Запасной Геббельс в Усе и есть Турвалд Эрье. Его не считали опасным, потому что он был слишком глуп и ему не позволяли действовать на свой страх и риск. Однако у Эрлинга были и другие сведения. Именно Турвалд Эрье направил в Осло двух нацистов пристрелить Эрлинга, но немцы в то же время, независимо от Эрье, решили Эрлинга арестовать. Ему удалось бежать до того, как явились и те и другие. Можно сказать, что у гестапо были законные права на его арест, а вот Турвалд Эрье был всего навсего непроходимый тупица, который просто хотел отомстить тому, кто когда-то пренебрег им.