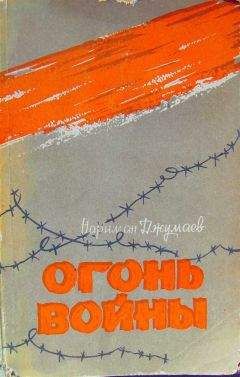Генджи усмехнулся. Он уже привык к тому, что русские переиначивают туркменские имена на свой лад.
— Давай, Генкой.
Рябоштан помолчал, потом продолжал:
— Ты не обижайся… Дружок у меня был, тоже Генкой звали. Мы с ним вот так, как с тобой, знаешь, сколько прошли да проехали! Автомат-то, что у тебя, раньше ему принадлежал. Эх, золотой был парень! С таким хоть в бой, хоть в разведку, хоть куда — такой был парень.
Дорога петляла, уходила то влево, то вправо, порой даже как будто поворачивала назад. Но солдаты знали, что едут они все-таки на запад, и это было приятно. Радовались все. Но Генджи испытывал особое чувство. Как-никак он был теперь настоящим солдатом, принявшим несколько дней назад боевое крещение. И автомат с потертым, поцарапанным ложем, принадлежавший раньше его назввнному тезке, тоже возвышал Генджи в собственных глазах, — как бы приобщал его к подвигам, которые совершал тот, другой Генка, золотой парень, убитый под Белградом.
Механизированная колонна уже пересекла Трансильванию и двигалась по дорогам Венгрии. Шли, минуя города и деревни, названия которых не запоминались, громыхали повозками на мостах, перекинутых через мелкие речки, пылили на проселках. Европа летела под колеса машин, спешащих туда, где шли тяжелые кровопролитные бои.
Генджи еще не знал, что это такое — настоящий бой. Недавняя стычка с небольшой немецкой частью, отбившейся от своих, была короткой, и наши почти не понесли потерь. Но ему она представлялась грандиозным сражением, и оттого, что немцы не оказали серьезного сопротивления, Генджи казалось, что воевать — это совсем просто, что-то вроде охоты на джейранов, ну, на волков, в крайнем случае.
И еще одно обстоятельство вселяло в него гордость — наконец-то окончились месяцы унизительной, полной горечи службы в медсанбате, где он помогал прачкам. Джигит таскал воду для стирки! Срам? Он даже перестал писать письма домой, — нельзя же признаться, что тебе не доверяют настоящего дела.
— Почему? — горячился он. — Что, я хуже других, да?
Командир медсанбата — уже седая женщина-майор — вначале терпеливо разъясняла ему, что на фронте всякое дело одинаково важно и почетно, но однажды, когда Генджи, забыв о субординации, совсем разошелся, вдруг вспылила и приказала посадить его под арест. Отсиживая положенный срок на гауптвахте, Генджи долго думал о случившемся и пришел к выводу, что доктор тоже стыдится своей нестроевой службы, втайне завидует тем, кто воюет по-настоящему, поэтому и сорвала злобу на нем.
— Зря кипятишься, — успокаивал его земляк и сослуживец Хайдар. — Не в тылу отсиживаешься. Слышишь — пушки бьют? Фронт. Меня, например, служба в медсанбате вполне устраивает. Облегчаем, так сказать, страдания…
— А я хочу сам бить фашистов, — горячо возражал Генджи. — Понимаешь, сам!
— Рапорт подавал? — поинтересовался Хайдар.
— Сколько раз!
— А почему хода ему не дают? — глаза Хайдара сузились, словно бы он присматривался к приятелю, испытывая недоверие.
— Н-не знаю, — почему-то смутился под этим взглядом Генджи.
— А ты подумай, — как бы намекнул Хайдар; казалось, будто он знает о нем что-то такое, о чем не принято говорить вот так, запросто. — Подумай. Как у тебя с биографией, не репрессирован ли кто, нет ли родственников за границей. А?
Генджи раньше как-то не задумывался об этом, но теперь, под испытующим взглядом Хайдара, стал мучительно перебирать в памяти все, что знал о близких и дальних родичах. И вдруг со смятенным чувством вспомнил, как мать рассказывала о каком-то не то троюродном дяде, не то о чьем-то шурине, будто бы живущем в Афганистане. Может быть, в этом дело?..
И Хайдар, пристально наблюдавший за его лицом, понял, что зерно сомнения, брошенное в душу неугомонного юнца, проросло.
«Ага, — злорадно подумал он, — и ты не такой уж чистый, каким кажешься себе. Сопляк, а туда же — «на фронт, на фронт». Вот тебе и фронт! Сиди теперь, ломай голову…»
Вслух Хайдар сказал:
— Я тебе, Генджи, как товарищ советую: ты эти свои рапорты забудь. Мне никакого дела нет, а там, — он многозначительно выделил это слово, — там могут и заинтересоваться, почему ты так рвешься на передовую. Понял?
— Так ведь… — начал было Генджи и осекся.
«Если там все известно, то ничего уже не докажешь». — Так, по крайней мере, говорил взгляд Хайдара — холодный, подозрительный и как бы отделяющий Генджи от остальных солдат, у которых «чистые» биографии.
Еще стоял летний, изнуряющий зной, но краски осени уже тронули мадьярскую степь. То здесь, то там среди зелени вспыхивал вдруг под солнцем багрянец, и тогда каждый понимал, что лето прошло, впереди дожди и слякоть, а конца войне еще не видать, хоть и катятся фашисты на запад. Пожалуй, и эту зиму провоюем…
— Слышь, Ген, — Рябоштан тронул рукой колено Генджи. — Спать охота — мочи нет. Ты на меня поглядывай, чтобы не свалился, я вздремну малость.
— Давай, — улыбнулся Генджи, — спи.
— Только как до Тимошева доедем — толкни в бок.
— Во-первых, не Тимошево, а Тимошкара, — откликнулся командир роты лейтенант Сатыбалдыев, — а, во-вторых, он находится в Румынии, а мы уже едем по Венгрии, ефрейтор.
В кузове засмеялись, задвигались, к Рябоштану стали поворачиваться лица, на которых загоралось ожидание хоть какой-нибудь разрядки.
— Целую страну ефрейтор проспал!
— Ай, да Рябоштан!
— Ты попроси, чтоб разбудили, когда к Берлину подъезжать будем!
Рябоштан добродушно улыбался в ответ.
— Придется мне уроки географии во взводе ввести, — сказал Сатыбалдыев. — А то такие, как ефрейтор Рябоштан, заблудятся в Европе.
Зажав автомат коленями, Рябоштан молитвенно сложил руки на груди, шутливо запричитал:
— Всеми святыми молю, товарищ лейтенант, не сажайте за парту — ей богу, пропаду. Я лучше каждое утро пятнадцать километров буду пробегать в противогазе. Не способный я к географии, истинный бог — не способный.
— Кроме географии, — сказал, краснея от смущения Генджи, — надо еще атеизм преподавать — ефрейтор бога часто вспоминает.
И снова засмеялись вокруг.
В бой они вступили с ходу. Произошло это так неожиданно, что Генджи не успел понять, что к чему. Раздались отрывистые команды, солдаты стали выпрыгивать из машин, растерянно оглядываясь, ища глазами врага.
Генджи представлял линию фронта в виде ряда укреплений, ходов сообщений, замаскированных орудий. А тут ничего этого не было. Просто, когда идущие в голове колонны бронетранспортеры приблизились к какому-то селу, по ним неожиданно ударили пушки. В ответ зарокотали крупнокалиберные пулеметы.
"Начинается», — с замиранием сердца подумал Генджи.
Но бой был короткий. Видимо, немцы не закреплялись в этом селе, а готовили оборону где-то дальше.
— По машинам! — прокатилось вдоль дороги.
У околицы Генджи увидел подорванную немецкую пушку, уткнувшуюся стволом в землю, а чуть поодаль — нашу «тридцать четверку», возле которой возились чумазые танкисты, Башня у танка была помята, наверное, в нее угодил снаряд.
И хотя вокруг было тихо, Генджи снова подумал взволнованно: «Начинается».
Уже темнело, когда колонна остановилась на длинной улице села. Поступил приказ пешим порядком продвинуться вперед и, не мешкая, рыть траншеи. Солдаты, предчувствуя близость серьезных событий, азартно взялись за дело. Всюду слышалось тяжелое дыхание, звон лопат, натыкающихся на камни, глухие удары выбрасываемой земли. Они рыли и поглядывали вперед, туда, где в предвечерних сумерках виднелась насыпь, похожая на берег недавно вырытого канала. Там проходил противотанковый ров, за которым укрепились немцы. Солдат, которые сунулись было за эту насыпь, обстреляли из пулеметов. Один был убит, и весть об этом тревожила необстрелянных бойцов. И только старые солдаты спокойно и деловито рыли траншеи, как будто выполняли привычную для многих крестьянскую работу.
Сжимая горячими ладонями черенок лопаты, Генджи подумал: «Вот начнется бой, сделаю что-нибудь такое…» И вдруг вспомнил свой разговор с Хайдаром там, в медсанбате. И ему стало стыдно. Неужели Хайдар был прав? «Я тебе скажу, чего ты рвешься в окопы, — презрительно сказал тогда Хайдар. — Тщеславие — вот что гонит тебя. Думаешь, кончится война, а у тебя и захудалой медальки не будет. Не так разве?»
Генджи покраснел, словно девушка, но не стал спорить. Всегда убеждавший себя в том, что на передовую просится, чтобы вместе со всеми бить врага, он, услышав от Хайдара ехидные слова, с удивлением и досадой понял: ведь в чем-то нрав этот недобрый и скрытный человек, земляк, с которым свела его судьба за тысячи километров от Туркмении. Была у Генджи тайная мечта — заслужить орден. Но он не видел в этом ничего плохого. Ордена дают героям, а какой джигит не считает себя способным на геройский поступок! И вот неожиданно, совсем по-другому смотрит на это Хайдар — с пренебрежением, даже с презрением..