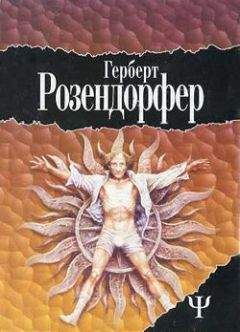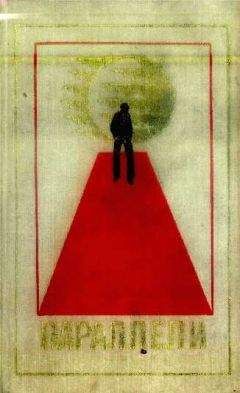— Вот суки. Да вы погодите, может, ещё билетов не будет. В Одессе всегда проблема с билетами. А в общем вагоне я не поеду.
— Вот, блин, Багрицкий нашёлся! — рассердилась Снежана. — Помнишь, как он с Катаевым торговался? Ты б ещё спросил: «А кушать?»
— Кушать меня не колышет.
— Так вот. Билет уже куплен. И оплачен. Купейный. Осталось его забрать в кассе на вокзале. Поезд послезавтра, в пятнадцать десять.
— Как же?..
— А так. По Интернету. Иногда, Константин Дмитриевич, надо слезать с пальмы…
Плющ вспомнил холодную грелку и помрачнел:
— И долго ты будешь прыгать с ветки на ветку?
Лелеев почувствовал приближение скандала и громко чихнул.
— Будь здоров, князь, — отвлёкся Плющ. — Какой же ты тонкий, падлюка. Я и не предполагал.
Он попыхтел трубкой и задумался.
Выставки они от меня ждут. Вот всё брошу… Хотя, можно и выставку, если бы не… Одесса — это же заграница. Нужно разрешение на вывоз национального, падла, достояния. Это лет десять назад всё было схвачено, в Министерстве культуры — без очереди.
— Сик… Что там с транзитом, Снежана?
— Каким транзитом?
— Который Мунди.
— А… Так проходит слава мира. Ты о чём?
— Да так… Лелеев! Ты чего мышей не ловишь? Наливай.
— Так о чём, всё-таки?
— Очень просто. Раньше слава была результатом деятельности. Что заслужил — то и маешь. Справедливо, несправедливо — неважно. А теперь что получается — эти потные мальчики и девочки корячатся в телевизоре для того, чтобы их гаишники знали в лицо?.. Интересное кино. Ладно. Одесса хочет выставки, — будет ей выставка. Голый король называется. Я им интересен в качестве мифа. Завтра, ребята, поможете. А теперь — спать. Достали вы меня. Лелеев, приходи часа в два.
На полу мастерской Плющ разложил работы. Это были, в основном, почеркушки — эскизы, нашлёпки, варианты. На картонках, на крафте и ещё пёс знает на чём. Акварелью, гуашью, акрилом.
Срезал с подрамников несколько старых небольших холстов.
— Значит, задача такая. Лелеев, у тебя интеллект среднестатистической внучки дошкольного возраста. Так вот: на обороте этих бумажек надо написать тексты: дорогому дедушке и так далее. Чтобы было понятно — на национальное достояние это фуфло не катит. Вот тебе фломастеры, выбери поярче — и вперёд. Я думаю, Одесса найдёт бабки на паспарту и рамки. А несколько своих, резаных, я захвачу. Это можно.
Вечером пришла Снежана, и Плющ проследил, чтобы старинные его рубашки были выглажены тщательно.
На дно чемодана уложили картонки и холсты, на белые штаны — рулон с внучкиными автографами. Плющ наклонил голову — направо, налево, прищурился:
— Ничего, красиво получилось, — он закрыл чемодан. — Лелеев, дай мобильник, я недорого. Набери этот номер.
— Алло… Я проездом. Приходи завтра ровно в полдень в метро «Китай-город», под башкой. Это Плющик.
Утром на месте грелки оказалась Снежана.
— Костя, уже девятый час. Маронов приедет в девять.
Маронов, президент шахматного клуба, по счастливой случайности собрался этим утром в Москву, по своим делам.
После слякотного Талдома сорок километров по пустой дороге просквозили незаметно через прозрачные леса. Плющ зажмурился и размышлял, стоит ли прибалтывать Карлика приехать вслед за ним, и решил, что не стоит: не собрался, так не собрался.
На Дмитровском мосту движение почти остановилось. «Интересно, настанет когда-нибудь такое время, что я не буду ёрзать хотя бы часа два кряду…» После Икши мрачный Маронов заговорил:
— Константин Дмитриевич, на «Китай-город» к двенадцати никак не успеваем. Дай Бог, к вокзалу в половине третьего. Ещё ж билет надо вызволить.
— Всё правильно. Як бiдному жениться, так i нiч мала.
— Что?
— Это так, по-хохляцки… а сколько сейчас?
— Одиннадцать двадцать. Вот телефон, позвоните своему приятелю.
— Да поздно. Он уже в метро.
Маронов пожал плечами.
Плющу досталась верхняя полка. Нижние места занимали женщина средних лет и молодой гагауз.
— Может, поменяемся? — нерешительно сказала женщина, пока Плющ карабкался наверх.
— Да что вы, всё нормально, — улыбнулся Плющ. — Наверху кашлять удобнее. А что, таможенники сильно шмонают?
Гагауз прислушался. Женщина пожала плечами.
Таможенники не шмонали — посмотрели на беззубого старичка и отвернулись.
На одесском вокзале Плюща встретил волоокий Лёня Пац.
— Вы меня помните, Константин Дмитриевич?
— Ну да. Студент. Историк, кажется…
— Нет. Доктор. Диетолог.
— Я и говорю: доктора мастера на всякие истории. Тебя Коренюк прислал?
— В общем, да. Хотя я, как прослышал, сам вызвался… Мой папа вас любил.
— А что с папой? — не сразу встревожился Плющ.
— Ничего, — Лёня пожал плечами. — В Израиле пенсию получает. Тоже занятие для русского режиссёра.
Лёня подхватил сумку, повесил на плечо, потянулся за рамами.
— Нет, это я сам. Мой лёгкий крест. Ехать далеко?
— Да нет, Канатная, угол Успенской. На тачке пять минут.
Плющ закашлялся и закурил.
— А давай пешком пройдёмся. Сколько я здесь не был… Лет пятнадцать?
Он снял куртку, уложил её поверх сумки.
— Тепло, падла. Как в детстве.
— Сегодня обещали девятнадцать. Вода, правда…
— Я, Лёня, никогда не относился к морю потребительски, — высокомерно заявил Плющ и засмеялся.
В историческом центре ничего не изменилось: серые и охристые дома сокрушались и терпели из последних сил, ржавели каштаны. Только акации зеленели сквозь пыль, как ни в чём не бывало, но и с ними что-то произошло — стали, как и положено старикам, меньше ростом.
Ничего приветственного не исходило из окрестного пейзажа. Наоборот — Плющу показалось, что он никогда не уезжал отсюда, а пора, и уже давно, этот город сидит в печёнках, и жизнь где-то далеко впереди, широкая и молодая.
— Красиво, падла, — встряхнулся было Плющ, но призрак коммунального примуса был так непрозрачен, и так внятно доносился сквозь жизнь соседский утренний кашель, что все недавние десятилетия — с моментами славы, толпами иностранных коллекционеров, все радости и замешательства, гордость забвения, томительность нищеты, и бабы, бабы — показались ему сном на солнцепёке — сладостным и мучительным.
В мастерской Коренюка пахло увядшим ультрамарином, по стенам висело несколько ранних холстов хозяина, прочие стояли аккуратным рядком на стеллаже. Чувствовалось, что здесь давно уже ничего не происходит, и накануне была уборка, с антикварных вещей, найденных когда-то на знаменитых одесских помойках, когда новое поколение впервые предпочло «пепси» мещанскому быту, стёрта пыль. Диван, на котором Плющу предстояло ночевать, был аккуратно покрыт клетчатым пледом.
Степан Коренюк с чёрно-белой бородой и в белой рубашке сидел за столом и пил зелёный чай. Он встал навстречу вошедшим, степенно обнял Плюща, три раза коснулся бородой его щеки. Плющ не знал, какого рода отношения ему предстоят, и решил задать тон первым:
— Здорово, Стёпа, а где, падла, фанфары?
Коренюк без улыбки отвечал, что жизнь пошла нелёгкая, радоваться нечему, но для него, для Плющика, как для дорогого гостя, будет сделано всё — и общение, и отдых, и даже возможность поработать, если захочет.
Общение началось уже через несколько минут — пришёл Пасько, снисходительно улыбнулся и сел на диван. Пасько вот уже сорок лет был женат на еврейке, и успел возненавидеть всех людей, оптом и в розницу.
Пришли молодые братья Лялюшкины, сыновья покойного художника. Забежал телеведущий Феликс, толстяк с жадными и опытными глазами.
— Феликс, а где же твоя камера? Ты что, готов упустить шанс?
Феликс засмеялся:
— Нет, Плющик, ты от меня не уйдёшь. Мы запишем интервью в студии. На двадцать пять минут.
— Что ты, Феликс, у меня же столько слов не наберётся…
— Ничего. Я подскажу.
Появилась незнакомая журналистка. «Страшная какая», — удивился Плющ. У неё было зыбкое глицериновое лицо, в котором свободно плавали тёмные глаза.
«Я понял. Вот в таких деталях и кроется дьявол».
— Что-то я, ребята, не догоняю, — прервал холодную паузу Константин Дмитриевич и закашлялся. — Мы будем что-нибудь пить?
— Плющику, Плющику, — вздохнул Коренюк. — Я давно уже не пью. Врачи запрещают.
Он заметил ехидную улыбку Пасько, и продолжил:
— Но ради твоего приезда…
Младший Лялюшкин сорвался с места. Плющ потянулся к карману.
— Денег дать?
Лялюшкин на ходу сделал отстраняющий жест.
— Только не надо ностальгического шмурдила, — крикнул Плющ вдогонку, — водки возьми.