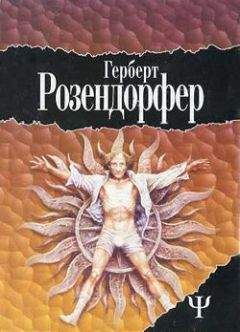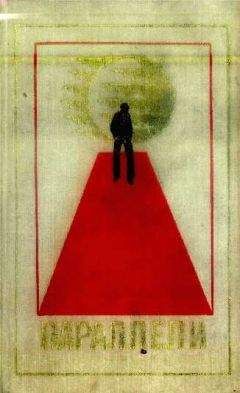— Какое, в жопу, море, — сказал бы Лелеев. Кто такой Лелеев? Надо бы Снежане позвонить, беспокоится, наверное. Так звонили уже, от Коренюка. Вот уж поистине — и беспамятство клюкою…
Так. Сейчас — ничего не предпринимать. Плющ походил по участку, попытался качнуть старую черешню, увидел смолу на вишне, обрадовался. С трудом сковырнул и сунул в рот, но тут же выплюнул — жевать нечем. Вот, Снежана, зараза, говорил же — зубы важнее. Опомнился и рассмеялся.
Позеленело небо над черепичными крышами, туча ворон поднялась с проклятиями, перелетела через небо и исчезла. Море стало слышнее, поднялся ветер, посвистывал в тонких злаках.
Плющ разделся, лёг, натянул на себя одеяло, но тут же встал. Перерыл кухонные полки, порылся в душевой и, разочарованный, улёгся обратно. Грелки в доме не оказалось.
Среди ночи он проснулся от грохота. Кто-то ходил по железной крыше. Ходил беззастенчиво, топал ногами, падал, замирал ненадолго и снова ходил.
«Ну, Лёня…» — процедил Плющ, прокрался босиком в кухню, нащупал на гвоздике секачку. Подтянул трусы и как можно тише приотворил входную дверь.
Холодный ветер мотал кроны деревьев по звёздному небу, звёзды были крупные, слезящиеся, навыкат.
Горстями, пригоршнями, вёдрами срывались с высокого дерева грецкие орехи, лупили по железу крыши, подпрыгивали, некоторые даже раскалывались.
«Ну, Лёня…» — рассмеялся Плющ, набросил курточку и закурил. Он ползал на коленях при слабом свете приоткрытой двери, собирал почти на ощупь законченные прохладные изделия тёплой природы и складывал их в кучку, по-хозяйски.
На рассвете закричал, как ни в чём не бывало, доисторический петух на дальнем хуторе. Солнечный луч тыкался в хрустальный дамский флакончик на полочке, флакончик ёжился, уворачивался, трепетал и повизгивал.
Плющ спустился к морю и задохнулся. Ветер утих, но воздуха было так много, что он не помещался в пространстве, в самом себе, горчил и становился почти непригодным в своём совершенстве.
Море было белое от жёлтой пены, только на горизонте чернела неуместная полоса.
По твёрдому мокрому песку, отливающему спелой сливой, похаживал без дела мартын, иногда останавливался, замирал, вглядываясь в своё бледное отражение.
Боком по галечным ступенькам, одна за другой спустились две приезжие бледные тётки, сбросили халатики и куда-то побежали в одинаковых синих купальниках.
— Красиво, — сказал Плющ, — но не интересно…
Так рано он не вставал давно.
Пустой пляж, лишённый примет современности, мог бы и навеять что-нибудь хорошее, прежнее, но проступали справа сквозь марево силуэты портальных кранов Ильичёвска, умаляли первобытность пляжа, укорачивали пространство, указывали отдыхающему на его место.
Ветер переместился, доносился с востока, прямо с моря, это предвещало долгую солнечную погоду. С этого утра можно считать приезд состоявшимся и теперь надо жить медленно, внимательно и непрерывно.
Воздуха по-прежнему слишком много, поэтому — покурить и тихонько выбираться наверх, придумать что-нибудь вроде завтрака, а потом… конечно же, белые штаны. Ничего, что никто не видит, даже хорошо, они будут подтекстом или даже двадцать пятым кадром.
В доме диетолога не оказалось хлеба. Конечно, нарочно. Как они говорят: белая смерть, чёрная смерть, пшеничная смерть. Какая ещё — формовая, подовая, заварная… надо купить, сходить на площадь, заодно и Рональда проведать, а то забудет.
Плющ сварил кофе в маленькой турке, с наслаждением натянул белые штаны — они оказались неожиданно тесноваты в пуговице, молния застегнулась с трудом. Что поделаешь — ходить надо больше.
На базарчике вчерашняя баба с вином мазнула недобрым взглядом и отвернулась. Рыбак в брезентовой зюйдвестке и ботфортах продавал бычков. «Ряженый какой-то, — удивился Плющ, — и бычки, наверное, бутафорские, вчерашние».
— Низка — двадцать пять гривен, — с готовностью, не вяжущейся с суровым видом, — сказал рыбак.
— Дай помацать.
Плющ ткнул пальцем в тугого бобыря, приоткрыл жаберную крышку, понюхал и величественно отошёл.
— Что бы ты понимал, москаль паскудный…
Плющ улыбался на ходу: бычки были свежие, но белые штаны работали, требовали понтов.
Магазин Рональда был закрыт, график работы, — прочёл Плющ, с 10 до 19. Он посмотрел на солнце — девять, наверное. Всё-таки без часов неудобно, когда ты один, но не носить же это китайское фуфло. Качество часов наверняка определяет качество прожитого тобой времени. Надо съездить на Староконный, может, найдутся какие-нибудь советские — «Полёт» или «Заря».
Он побродил по площади, нашёл пивнушку, но заходить не стал. А вот и открытый магазин, и даже с небольшой очередью, как полагается, — продавщица ушла в подсобку и долго не возвращалась. Очередь не роптала, робкие бледные люди молча переминались с ноги на ногу. Наконец, появилась продавщица и в полной тишине пошла в наступление:
— Что, я не могу удалиться по своим делам? Новости! Я, между прочим, тоже человек!
Никто не возражал, и продавщица обмякла.
Плющ взял буханку чёрного и бутылку водки, сел на ящик под стеночкой и растворился в тёплом воздухе. Он видел, как Рональд открывает магазин, но не торопился. Посмотрел на солнце, на тени, чтобы запомнить, как выглядят десять часов местного времени.
Рональд кивнул вежливо и равнодушно.
— Сделай-ка мне, Рональд, как всегда.
— Говно вопрос.
Он налил стопку, отрезал ломтик лимона, положил на блюдце:
— Рекомендую.
Плющ выпил коньяк медленно и внимательно, жевнул лимон.
— Сколько с меня?
— Нисколько. Не велено. Наши с Лёней дела.
— Интересно, — огорчился Плющ, — психолог-диетолог. Это получается, что мне сюда лучше не заходить!
— Ваше право.
— Нет, но ты видал, Рональд? Придумал лучше всякой супруги. На совесть давит. Он меня завязать хочет.
Рональд посмотрел на бутылку, просвечивающую в пакете, и впервые улыбнулся.
— Вас завяжешь… как же.
Плющ рассмеялся:
— А давай, мы его всё-таки наколем. Через раз буду платить я, тебе же лучше.
— Говно вопрос. Только я не могу.
— Почему?
— Я честный.
— Ну и ладно. В конце концов, я его об этом не просил. Большое спасибо.
Плющ посасывал кружок твёрдокопчёной колбасы, когда позвонил Лёня.
— Всё нормально? Спать не холодно? Завтра суббота, я приеду, привезу обогреватель.
— Большое спасибо. Только приезжай с утра пораньше. Может, на Староконный съездим? Он ещё существует?
— Да, да, о’кей.
— И ещё, Лёня. Тут у тебя орехов понападало. Куда их определить? Может, тазик какой?
Лёня засмеялся:
— А вы ешьте. А что останется — пусть лежит так.
Плющ посмотрел на обсосанную колбасу.
— Издеваешься? Ладно. До встречи.
«Я, в кои-то веки, дачник», — возликовал Плющ, усевшись в шезлонге под черешней. Белые штаны жили своей жизнью, — тени побелевшей листвы шевелились на них, наклонялись, кивали, покачивались в разные стороны. Белое вступило в диалог с сиреневым, и говорили они о любви.
Бунинское серебряное солнце копошилось в седой щетине. Не было никакой южнорусской школы. Что общего у дачника Костанди с Головковым, задыхающимся от тяжести красоты, или тревожным Нилусом? И никто в Одессе не обязан быть одесситом. Да просто не может. Море и тени — это только условия, не больше. А главное — это произведение души и культурное любопытство. Это хавал Паустовский, Константин Георгиевич, а Бабель — не догонял. «Одесские рассказы» можно написать и в Кимрах. Интересно, кто ещё из одесситов это понимает? Пожалуй, никто. Карлик, Кока, Плющик.
Все Коренюки ушли в авангард, потому что это легче продаётся. Не должен художник продаваться. Хорошо, конечно, если его покупают.
Смешно — авангард, с понтом передовой отряд, стал обозом — убежищем ослабевших, туда уходят, когда нет сил совладать с кромешной красотой, и отсиживаются, и стреляют по химерам из детского оружия.
Сарайчик был на замке, под стеночкой стояло ведро с окаменевшей извёсткой, торчала из неё рукоять малярной кисти. Плющ залил известь горячей водой, побродил между вишнями, черешнями, абрикосами — на вид их было штук пятнадцать, да старый орех. Побелка на них полиняла, не оттуда растут руки у диетолога.
Честности ради, Плющ пытался вспомнить, белят ли деревья осенью, и, не вспомнив, даже обрадовался: в конце концов, надо же чем-то заняться. Интересно, что у Лёни в сарайчике — наверняка, инструмент какой-никакой. Он вспомнил о трубке, обрадовался, затянулся и снова уселся в шезлонг. На этот раз мысли были полегче: разрубить курицу, из половинки сделать бульон, бросить пару цибулек. А пока он сварится и скушается — извёстка размякнет.