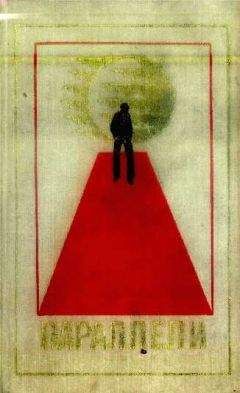«А я и не рассчитывал сегодня ни на что, хотя твои слова внушают надежду», – сказал Нерлин. Будто ногтем по стеклу поскреб, так это для нее прозвучало.
Совсем взрослая Клава, как барышня романтическая, жила в уверенности, что и первое, и последнее слово согласия на близость остается за женщиной, ну, может, не за всякой, а только такой, как она… Эта вера была у нее с юности, как данность, которую ей в голову не приходило проверять или кому-нибудь формулировать. Питалось убеждение это прежде всего Костиным отношением, но не только им, конечно. И комплиментами (бывали такие, которым невозможно не верить, настолько они подходили к ней и больше ни к кому), и многолетними дружбами с семейными мужчинами, и с неженатыми… (стоп, стоп, холостяков-то в друзьях у нее не было), в которых Костя равноправно участвовал или просто знал о них, и мимолетными встречами с неожиданно длинными разговорами, похожими на захватывающие прогулки по незнакомому городу, Елец это или Цюрих – одинаково интересно.
Укрытая уже почти четверть века прозрачным куполом Костиной любви (модернизированная старинная формула «за мужем как за каменной стеной»), не мешающим полному обзору, она была ограждена и от хаотичных, и от целенаправленных ударов по женской гордости, которые другие получают систематически и которые самую глупенькую особу заставляют помудреть. А избалованная Клава (тут Елизавета Петровна права, такая изнеженность просто опасна) посчитала оскорблением и сказанное ей как-то по пьянке «тебя-то я бы трахнул», и с промежутком лет в пять, спрошенное уже другим, «когда же мы с тобой переспим?». Без раздумий, не задержав в себе, выложила сразу все Косте, который оба раза отреагировал одинаково: «Идиот… Забудь». Она и забыла эти экзотические эксцессы, вот и оказалась беззащитной перед Макаром. Но потому же время смогло вывести из памяти безобразную кляксу, оставленную насильником, а ведь случается, что и от меньшего пятна женская судьба, как праздничное платье, отправляется на свалку или превращается в общеупотребительную тряпку.
На кухне Нерлин не позволил Клаве похозяйничать – сам ловко, умело заварил и подал чай. Как сможет не всякий зрячий мужчина. Слепоты своей не стеснялся и не бравировал ею – было в его поведении мужественное, христианское подчинение ударившему его року. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Не спрятался он в испуге от мира, не обиделся, а наоборот, сильнее раскрылся ему навстречу. И компенсировал свое увечье. Клава сразу перестала упираться взглядом в его черные очки – так забывают о безрукости Венеры Милосской…
У порога, провожая гостью, Нерлин сказал – не в потоке разговора, не иссякавшем ни на минуту, а как будто заранее заготовленное: «Ты мне очень симпатична, очень». О следующей встрече не заикнулся даже.
Все это вместе, как витаминный укол, действовать начало не сразу, но неуклонно, и сейчас, ночью, у Клавы была энергия, чтобы поделиться со своим чадом. Ни с какими конкретными приемами психоанализа она не была знакома. Долетало, конечно, кое-что – из радио-телевидения-журналов, приятельницы делились – и те, что спускали излишек заработанной насилием над своими нервами валюты на психоаналитика, и те, что поучились на курсах, чтобы подзаработать психоанализом… Но не станешь же пичкать родную, единственную дочь модным лекарством, к которому быстро привыкают, и от зависимости этой, ясно же, избавляться уже и не захочется.
Клава, привыкнув все и сразу, без промедления, выкладывать Косте, уже начала понимать, как трудно теперь сдерживаться, как возможность пожаловаться на обиду парализует волю, необходимую для немедленной ответной реакции, благодаря которой только и строятся правильные отношения и с коллегами, и с друзьями-недругами, да хоть и с посторонней старухой (чтобы злобное шипение в метрошной давке «патлы-то отрастила!» не нарушило хрупкой внутренней гармонии)…
Осторожно повернув Дуню, как маленькую, на животик, Клава принялась поглаживать-постукивать ее по спине – сидячая работа сказывалась уже на позвоночнике (дочь часами сидела за компьютером – не только чтобы писать, но и в интернете нужную информацию чтобы выискивать, и вопросы для интервью по электронной почте посылать и так же получать ответы) – и вместо более привычных советов-замечаний («я же говорила» произносят хоть раз все матери мира, пока до них не дойдет, что это самолюбивое преувеличение своего всезнания и непослушания ребенка безнадежно, невосстановимо углубляет расщелину между поколениями) принялась вслух искать – и легко, без малейшей натуги находить преимущества в случившемся. Плюсы шли косяком, и выходило, что плакать можно разве что от счастья, ведь показал мальчонка себя, пока еще не поженились (он сразу хотел), ребенка не завели (он настаивал), подругам-коллегам осторожная Дуня его не предъявляла (тут уж и Клава-Костя дивились ее сдержанности), так что гибель влюбленности (настоящая, ответственная любовь – это чудо, созданное в нераздельном соавторстве, она выживает, даже если один из ее творцов погиб… Ромео и Джульетта, оба умерли, а их любовь до сих пор жива…) случилась не на миру и ничего красивого, о чем бы жалеть стоило, в ней не было.
Клава еще и хватила лишку, вспомнив, что прикадрился (нет-нет, это слово она вслух не произнесла, грубовато оно было по отношению к дочке) он к Дуне, когда она попала на свою эффектную работу, а раньше, суетясь в тех же кругах, не обращал на нее внимания. Вот уж обывательская претензия, пусть и разделяют ее, особо не вдумываясь, многие. Ведь что-то нужно, чтоб выделить, заметить человека – вон их сколько в огромном мире. Внутреннюю, духовную красоту (с внешней, не обклеенной ярлыками престижных оценок ничуть не проще) может разглядеть сразу только глубокий, зрелый человек (бывают и конторы, и тусовки, куда ни один такой никогда не забредает), нелепо даже требовать этого от малолетки, пусть и рассуждающего по-взрослому. Гарантированно притягивает к себе взгляды экстравагантность… Причем элегантная, со вкусом, меньше, чем вульгарная, сигнализирующая о простоте и доступности («снять бы с нее все эти одежки и…» – думает почти всякий юнец-мужчина-старик, некоторые не ограничиваются мимолетным ощущением, а действуют). Опасно девице не знать этих простых правил.
Но Дуне долго было все равно, что надеть – только бы не слишком яркое… И сколько Клава ни талдычила «по одежке встречают», «реснички хотя бы подкрась», бирюзовая кофта с большим, приметным воротником, связанная ею, лежала внизу аккуратной стопки в Дунином шкафу ненадеванная, то же самое с оранжевым платьем в косую гарусную полоску… Тушь с непривычки попадала дочке в глаз, и чтобы не опоздать, приходилось быстренько ее смывать.
И в школе, и в универе вокруг Дуни была компания мальчиков-девочек, которых она обзванивала, чтобы в кино сходить на «Догму» датскую, на элитарных французов-англичан-немцев, на наших Сокурова-Муратову или на «Аукцыон» в «Бункере» на Тверской, БГ на Горбушке послушать, «Сплин» в «Китайском летчике» или к себе в гости звала… Благодаря Дуниному всезнанию Клава с Костей тоже выбирались из дома – ее «вам понравится» ни разу не было ошибкой. Доверились пару раз газетным лоббистам, так высидели эти кинохалтуры до конца только потому, что за билеты сумму существенную выложили – смешная и стыдная причина.
И вдруг (да нет, какое вдруг, Клава боялась этого, но знала, что так будет) Дуня стала возвращаться с вечеринок грустная, поникшая: «На меня с жалостью смотрят: все парами – и женатые, и нет – я одна такая… Настин Юра потанцевать пригласил, а потом на своем “ауди” подбросил, так она всю дорогу дулась и обидно подшучивала надо мной».
И все-таки, когда на конференции, которую Дуня обозревала в своей газете, к ней целеустремленно прилип высокий кучерявый юнец во взрослящей его бороде, она ему не сразу поверила, и первые месяцы еще делилась удивлением: «Он говорит, что я красивая, с работы встречает… Ведь очень поздно, бывает… До самого подъезда провожает – а ему потом в противоположный конец. Но он моложе меня, на третьем курсе только-только восстановился». Настораживало, правда, что парнишка ревнует, и не столько к конкретным мальчикам, сколько к абстрактным ее успехам, не радуется за нее нисколько. «Рожай скорее и сиди с ребенком». Как будто дите – не цель, а средство. Но эту слабость Дуня, по-женски выудив из этого желания только лестную часть, прощала, понимая к тому же, что мужчину без самолюбия сразу затопчут.
И вот после того, как обсудили жизнь вместе, до старости с внуками аж дошли, когда Дуню со своей матерью познакомил и, по его же словам, «невеста» ей понравилась, совсем внезапно для Дуни из Франции вернулась его прежняя пассия, взрослая и циничная куртизанка (вскользь упомянул он как-то о ее предательстве), и мальчонка начал исчезать из Дуниной жизни.