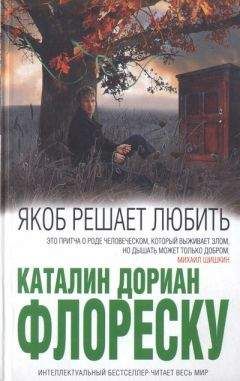В тот день, когда у нас с опозданием началась война, я в который раз набил полный мешок для Рамины и отправился на Цыганский холм. Благодаря тому что приемник священника был сломан, у нас мир продолжался на полдня дольше. Полдня, когда никто не погибал и в Европе царил покой. Засушливое лето подходило к концу, полевой сторож готовился к сезону бурь, а Непер смешивал свои порошочки в дальней комнате. Трактирщик Зеппль указывал клиентам на другую табличку, висевшую в трактире: «Жри от пуза, пей в три горла, о политике — ни слова».
Полдня мы не слышали голос Велповра. Отец вместе с управляющим поехал на мельницу, которую решил построить, чтобы больше ни от кого не зависеть. На полях деревенские парни в форме готовились к войне за наше дело. К войне, которая казалась нам бесконечно далекой в тот день, когда на самом деле началась.
Предводитель вояк, учитель Кирш, муштровал их с помощью того же свистка, которым терзал нас на уроках физкультуры. Они припадали к земле, высоко подпрыгивали и все равно казались лишь маленькими черточками на бесконечном просторе природы, терпевшей человека с тех пор, как он тут появился. Но и убивавшей довольно часто. Над самыми ретивыми из нас можно было бы посмеяться, но винтовки парней стояли в полной боевой готовности, прислоненные к старому пересохшему колодцу.
Я выходил со двора с мешком на плечах, однако, едва скрывшись с глаз домашних, мне приходилось ставить его на землю. На самом деле я врал, говоря родителям, что набрал полный мешок, ведь даже в свои тринадцать лет я не смог бы сдвинуть его с места.
Да и Рамина никогда не жаловалась, что я приносил в лучшем случае половину того, на что она теперь имела исконное право. Просто она прекрасно знала мою одышку и слабые мускулы. Отец часто говорил, что мое тело больше подошло бы старику, чем подростку. Вся семья думала, что я не доживу до старости.
Болеть можно по-разному: тихо и молча, словно стараясь скрыть ото всех свою болезнь, как неискупимую вину. Или же с хрипом и кашлем выставлять напоказ наполненные мокротами, отечные бронхи, пылающее жаром, воспаленное тело, как бесконечный ритуал угрозы жизни. Я был из тех, кто страдает тихо, только для того, чтобы в другой раз заставить всех волноваться посильнее. И все-таки я не был несчастным.
Я собирался не нести мешок на плече, а волочить его за собой всю дорогу до Цыганского холма. В пыли всегда оставался широкий, четкий след от угла нашего двора, где я сбрасывал мешок, до узкой тропинки, ведущей вверх по склону к дому Рамины. Каждую пятницу после обеда этот след тянулся через деревню, будто оставленный гигантской улиткой.
След вел мимо церкви и трактира, мимо коровников и амбаров, уже принадлежавших нам, мимо поворота на мельницу и мимо школы. Потом этот след выходил из деревни, пересекая границу — ту воображаемую линию, которую никто не видел, но каждый знал о ней.
Через несколько сотен метров след вдруг прерывался, как будто улитка растворилась в воздухе. В этом месте надо было перепрыгнуть через яму, заросшую бурьяном и полевыми цветами, и на другой стороне найти едва заметную тропку. Я швырял мешок вперед, причем чаще всего он падал в яму, и с разбегу прыгал сам, но и я улетал не дальше своей ноши. Поэтому мне часто приходилось выталкивать мешок из ямы и потом выбираться самому.
Обычно мое маленькое путешествие проходило без приключений, я приближался к дому Рамины постепенно, с передышками под деревом, на нагретом солнцем камне или в высокой траве некошеного луга. Но в этот день случилось иначе.
Я остановился передохнуть за одним из сараев и пытался поймать вырвавшуюся из мешка курицу, которая использовала любую возможность избежать своей судьбы. Она прожила бы еще два дня, а потом насытила бы желудки Рамины и Сарело. Если, конечно, Сарело не прикончил бы ее раньше, проверяя остроту своих ножей. Ведь на курах он любил тренироваться больше всего.
Юные бойцы и учитель Кирш подкрались ко мне, как к врагу, которого надо застать врасплох. Они часто упражнялись в этом, и все же через несколько лет почти всех их внесли в деревню вперед ногами.
— Ты — позор нашей деревни. Таскаешь кур цыганке и ходишь босой, как ее сынок, — начал задираться один из них.
— Мы должны ей это, — возразил я.
— Шваб ничего не должен какой-то цыганке.
Учитель держался поодаль, наблюдая за своими учениками — так хозяева неугомонных щенят отпускают поводок подлиннее, чтобы дать им порезвиться. Он прислонился к углу сарая, скрестив руки и надвинув фуражку на лицо.
Парень, заговоривший со мной, почти незнакомый, поднял меня, как будто я вообще ничего не весил. И перебросил другому, а тот — третьему. «Смотри, цыпленочек летит, да это же наш Якоб!» — весело крикнул один. «Скоро оперится», — вторили ему. Так они бросали меня друг другу, пока по сигналу учителя не уронили на землю.
Я встал и хотел убежать, но учитель позвал меня по имени. Он подошел, присел на корточки и отряхнул меня от пыли.
— Якоб, вместо того чтобы носить винтовку, ты носишь кур. Разве такое подобает немецкому мальчику? — Я молчал, и он повторил вопрос громче: — Подобает?
— Нет, господин учитель.
— Так почему же ты это делаешь?
— Я еще маленький для винтовки. Мне всего тринадцать.
— Скоро начнется война. Может быть, даже завтра. И тогда понадобится, чтобы каждый немецкий мальчик умел управляться с оружием и был физически крепок.
— Отец говорит… — начал я.
— Нам плевать, что говорит твой отец. Они с твоим дедом больше думают о себе, чем о народе. Добром это не кончится. А что думаешь ты?
— Я не знаю, господин учитель.
Он повернул меня, заправил мне рубашку в штаны и отряхнул спину.
— Мы ведь не хотим, чтобы твой отец что-нибудь заметил, да?
— Так точно, господин учитель.
— Как подобает прощаться немецкому мальчику?
— Хайль Гитлер, господин учитель!
— Молодец. Увидимся завтра в школе. Не забудь сделать домашнее задание. И обуй хотя бы приличные башмаки, если уж не сапоги.
За весь разговор учитель ни разу не запнулся, у него ни разу не перехватило горло, как обычно бывало на уроках из-за его астмы.
Один из его подопечных — наверное, из другой деревни, потому что я его никогда раньше не видел, — поймал курицу, мирно клевавшую что-то на поле, и принес обратно. Он показал ее приятелям, словно военный трофей, но я знал, что он задумал. «К забою курицы — товсь!» — крикнул он. Это была любимая забава деревенских мальчишек. Остаток жизни пернатой внезапно сократился с двух дней до получаса. Но ей повезло.
Парнишка выпустил птицу из рук, увидев кое-что поинтереснее для забавы, чем перепуганная тощая курица. Через поле в нашу сторону шла сербская девочка с коробкой в руках. Я немного знал ее, потому что мы с ней ходили в одну школу, но она посещала уроки на румынском, которые шли в том же помещении за занавеской. Еще я знал, что она живет на окраине села и помогает матери-портнихе. Часто она шагала через деревню с платьями и костюмами, которые для кого-то сшила ее мать. Мой дед тоже носил штаны и жилет ее работы.
Парень в несколько прыжков оказался рядом с ней, схватил за руку и притащил к нам. Потом вернулся и подобрал коробку, которую девочка уронила от испуга.
Девчушка замерла, лишь в глазах ее читался невыразимый страх и слегка подрагивал подбородок. Я едва мог поверить, что на свете может быть кто-то еще меньше и слабее меня, но она была именно такой. Лицо у нее было широкое, глаза — словно очерчены углем, а брови — густые, почти сросшиеся.
— Можешь ударить ее до крови, Якоб? Это всего лишь сербская девчонка, отец тебя ругать не будет, — сказал третий мальчишка.
Пацан, подобравший коробку, открыл ее, вытащил шикарный новый костюм и изрезал его перочинным ножиком. Учитель молчал. Когда я обернулся к нему в надежде, что он хоть как-то поможет, он посмотрел на меня совершенно невозмутимо.
И тут случилось непоправимое. Теплая струя, которую я долго еле сдерживал, намочила штаны, потекла по ногам и образовала подо мной лужицу. Земля, иссушенная, как всегда в это время года, жадно впитывала жидкость. «Якоб полил землю, — закричали они, смеясь. — Кто знает, какие странные цветочки теперь тут вырастут».
Словно добившись своего, юные бойцы потеряли к нам интерес и оставили в покое. Они решили прервать учения, пойти в трактир и опрокинуть по стопке шнапса за здоровье фюрера.
Знамена ввысь! В шеренгах, плотно слитых,
СА идут, спокойны и тверды.
Глядят на свастику с надеждой миллионы,
День тьму прорвет, даст хлеб и волю он[16].
Они распевали эту песню, пока не скрылись из виду.
Теперь остались только мы, мы вдвоем. Я долго гонялся за курицей, наконец поймал ее и засунул в мешок. Девочка не сходила с места, она рыдала, сжав маленькие кулачки.