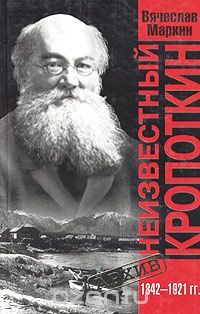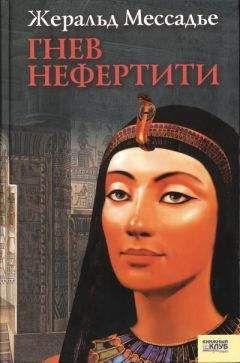— А чем Илина занимается? — перебил его я. — Образование у нее есть? — образование для меня о чем-то говорит. Хотя, конечно, кого только университеты не воспитывают…
— Она — ветврач! У нее средний балл «девять и один», это почти как наша «единица»!
— Умная, — сказал я не без облегчения.
Хотя если умная, почему запереть себя позволила? Да, и была ли тюрьма? Как встречалась она с Томасом, если под замком у зверя-полукровки сидела?
Побыв на цепи год или два, моя знакомая русская бежала от своего немецкого изверга, вышла замуж еще и еще, и всякий раз — так она рассказывала — злые мужчины били ее, горемыку. Сейчас любовник бьет, и мне ее не жаль. А милая девица, она москвичка, спрашивала меня как-то про один голландский город — хороший ли, стоит ли ехать. Ее замуж голландец позвал. «Ты его любишь?» — спросил я. «Да, я смогу по всей Европе без визы ездить», — ответила она. А знакомый бразилец, голосистый кудрявый алкаш, буквально в эти минуты пьет кровь одному хорошему человеку — жрет, пьет, срет в душу и жалуется всему свету, что гадкий любовник хочет найти ему — такому прекрасному — работу.
И нет им числа.
Как люблю я этих блядей — всех полов, возрастов и национальностей, этих торговок патентованным счастьем, эквилибристок елея, змей-заклинательниц, профессиональных идиоток, гениев алгебраических гармоний, щупательниц недр, изымательниц активов — всех цветов и сортов. Как люблю я их, неутомимых искательниц слабины, душек этих, пушистых и мяконьких, с глазами-блюдцами, поющих нескончаемую свою песнь — как жила и страдала, как неодолимые силы ввергли, как обрекли… И слезы по щекам, и трясутся нервно метафорические сиротские бантики.
Я люблю их, я ими любуюсь, я могу себе это позволить, у меня лед в глазах, им нечего у меня брать — даже пример.
— Нужно быть осторожным, — осторожно начал я.
Незадолго до того, как злющая архитекторша его бросила, Томас рассказывал, какую шикарную они сыграют свадьбу.
Томас понял меня с полуслова.
— И что? Что я теряю?! Только время!
И время, и чувства, и деньги, а главное, надежду.
А если не будет надежды у этого нелепого немца, то он опять жрать начнет, как свинья, или завалится в клинику с неврозом — или еще хуже, будет ходить, полный таблеточного счастья, будет пугать людей своей эйфорией — мне рассказывали про Томаса, мне было жаль его очень.
— Не получится — уедет, — сказал он. — Теперь я думаю только позитивно. И пока все идет только в плюс, — он открыл папку, там были копии документов на румынском. Сертификаты чего-то ветеринарного.
— Хорошая бумага, — сказал я. Копии были цветные, а бумага плотная, глянцевая, почти как пластик.
— Если уж делать, то как следует, — сказал он, перекладывая листы. Один из них был распечаткой фотографии — наверное, из Интернета.
— Это она?
— Да, смотри какая.
— …
Она была головокружительно хороша.
И что после этого? Верить?
Деревня немецкая, небольшая, обустроенная скучно: двухэтажные домики блеклых цветов — розовых, желтых, голубых — выставлены рядами, без всяких палисадников впереди, как будто детские кубики. Ряды глухие, без просвета, а за ними жизнь кипит.
Вот, две старушки. Живут по соседству. Фрау Кнопф — фрау Шредер. У них Холодная война.
У одной я часто останавливаюсь — ее сын приходится мне приятелем, и, если мы шумной толпой едем на машине к Северному морю, то есть возможность переночевать в этом желтеньком доме — сделать по пути остановку.
О другой — фрау Кнопф — я слышу всякий раз, когда бываю в доме фрау Шредер, а потому и вспоминаю старушек всегда парно.
Фрау Шредер — фрау Кнопф.
Одна — высокая, худая, подтянутая, кудри залакированы волосок к волоску, на кашемировой нежно-розовой груди тусклый черный камень в серебряной оправе — была бы воплощенной леди, если б не некрасивая растоптанная обувь, в какой удобно отекшим ногам.
Другая — круглая, седенькая, глаза светлые, выпуклые, будто в два круглых аквариума воды налили, и рыбки там — по одной в каждом, живые и мелкие. Была бы русской, носила б цветастый платок по плечам, но она немка — на ней что-то вроде вязаной кацавейки.
Сухощавая фрау Шредер ходит, не спеша, хозяйство ведет с толком: дети, которые приезжают к ней в гости (то все трое разом, то по одиночке), завтракают не позднее десяти. Правило соблюдается неукоснительно. Однажды я проспал, и наутро внизу в столовой меня ждало бескрайнее поле белой скатерти с сиротливо стоящим с краешку утренним ассортиментом: чашка с блюдцем, тарелка, нож, ложечка, салфетка, термос с кофе, тарелка с колбасой и сыром, баночка варенья, яйцо в стаканчике, укрытое самодельной вязаной шапочкой. Мне стало стыдно, с той поры я старался не опаздывать, как бы сладко ни спалось мне в деревенской тиши.
А в два часа обед. Готовить его фрау Шредер принимается почти сразу после завтрака — под шум посудомоечной машины, которая, к слову, появилась у нее первой из всех жителей этой деревни. Фрау Шредер знает цену прогрессу. Ее родители были обедневшими врачами, она училась в большом городе, а в деревне очутилась, выскочив замуж за своего дантиста. Тот умер лет двадцать назад, с той поры она живет вдовой. Ее сын рассказал мне, что «mama» (всегда «mama», и никогда чопорное «mutter») могла бы пойти в политику, ей предлагали место в каком-то местном совете, но по делам ей пришлось бы часто разъезжать, пренебрегая материнскими обязанностями — и она отказалась.
На обед бывает то зелень с мясом, то рыба с фасолью, то еще какая-то очень сытная и очень старомодная еда, предназначенная для вкушения, а не заталкивания в себя на ходу. Готовит ее фрау Шредер, не суетясь, и меня поначалу удивляло, как она, ветхая, в общем-то, старушка, прекрасно все успевает: к двум часам тарелки на столе сияют, старое разнокалиберное серебро подмаргивает в такт, в металлическом соуснике плещется какая-нибудь аппетитная жидкость, стоят и блюдо с мясом, и большая глубокая тарелка с салатом, и еще одна — то с картошкой, то с какими-то стручками; если день рыбный, то приготовлена еще и отдельная тарелка, куда следует класть хребты и кости. Подглядывая за фрау Шредер, я научился встряхивать салфетку и аккуратно раскладывать ее на коленях, есть рыбу специальным рыбным ножом (оказалось очень удобно), а когда с трапезой покончено, сигнализировать о том вилкой и ножом, сложенными на тарелке вместе.
После обеда фрау Шредер удаляется в комнатку, смежную с гостиной и, накрывшись русской белой шалью, почивает на диване. Диван этот мне очень нравится — он достался фрау Шредер от тетки. Та была старой девой в Берлине, а когда умерла, отписала имущество любимой племяннице.
— Она замуж не вышла, — рассказывала фрау Шредер. — У нее груди были, как бутылки. Очень стеснялась. Стала журналисткой.
В кабинетике рядом с цветастым диваном стоит пузатый комодик — у него есть один симпатичный фокус: скважины для ключей обрамлены в перламутровые оконца. Эти продуманные детали сообщают, что изготовлен комодик давно, любовно и приобретен за большие деньги.
Судя по фотографиям в круглых рамочках на стенах, сама фрау Шредер в молодости была хороша собой. Не красавица — профиль жестковат, и нос крупен, с хищно прорезанными ноздрями, а рта и нет почти, один только намек на губы. Но зато прекрасная кожа и густые светлые волосы войлоком.
Когда я впервые оказался у фрау Шредер в гостях, то обстановка меня поразила — все казалось очень роскошным, солидным, буржуазным очень. Потом, правда, выяснил, что солидность и дороговизна скопились только в двух комнатах — гостиной и кабинетике по соседству. В остальном дом обставлен, скорее, просто — функционально очень. В гостевой комнате на втором этаже, которую обычно выделяют мне — полки, сбитые чуть не вручную, а платяной шкаф своей простотой напоминает советскую фанерную мебель.
— Она все потратила на детей, — объяснил ее сын, средний из троих, который приходится мне приятелем.
Подремав часок-другой, фрау Шредер встает и, втиснув отекшие ступни в комнатные туфли, шаркает на кухню. Там она заваривает кофе, раскладывает на тарелочку самодельные коржики. Молоко непременно наливает в специальный металлический молочник с едва приметным носиком. Чашки фарфоровые, тонкие, пить из них страшно — кажется, что жидкость запросто просочится сквозь просвечивающие стенки. Или кокнешь, не дай бог. Фарфор венгерский, приобретенный давным-давно, но почти целый — одна только чашка склеена. Остальные — их пять, вроде — целы-целехоньки.
— Трое детей было, и ничего не разбилось, — удивлялся я.
— Мы из кружек пили, — пояснил мой приятель. К фарфору, по его словам, допускали только совершеннолетних.
А далее наступает вечер. Сумерки неспешно сгущаются, в гостиной зажигается торшер с желтым треугольным абажуром. Фрау Шредер, нацепив очки с толстой бесцветной оправой, сидит в своем высоком кожаном кресле, вяжет крючком, читает прессу, смотрит телевизор, упрятанный в нише фанерного шкафа-стенки. Когда темнота за окном становится непроглядной, а по углам вспыхивает еще и пара желтых настольных ламп, на столике, украшенном кружевной белой салфеткой появляются бокалы с вином, вкусная мелочь — конфеты, печенье, кубики сыра. Собираются все обитатели дома — дети, дети детей, мужья, жены, их друзья. Иногда, на Пасху или Рождество, бывает даже тесновато, и мне трудно представить, как выглядит эта комната в другое время, когда фрау Шредер совсем одна — а такое бывает чаще, все дети давно разлетелись кто-куда (врач, финансист, врач).