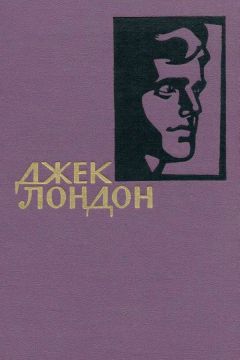Я начал подбираться к нему, пока он кричал:
– Свободный стол – играем в кости!
С нашими костями! Или он чересчур наивен, или притворяется таковым.
Завидев нового игрока, профессионалы ведут себя очень осторожно. Никто пока не откликался на его призывы и не делал ставок.
Бальбо, подмигнув мне, предложил сыграть в рамс или покер. Проходя мимо, он шепнул мне, что, по словам одной девушки, клиент солидный, но нужно торопиться, пока он не надумал вернуться в свое посольство. Речь шла об иностранном чиновнике высокого ранга, вот почему он был так хорошо одет.
Иностранец и сам был не прочь поиграть в покер, хотя бы часок. Времени маловато, подумал я, для того чтобы провернуть с ним обычный фокус.
Я начал тасовать колоду, а он даже не стал проверять меня. Что же, или он слишком глуп, или настоящий жулик.
Он оказался глупцом, я смекнул сразу. Менее чем за час я выудил у него все наличные, тридцать две тысячи марок, но мне не удалось развести его на часы: чиновник предпочел занять у Бальбо еще восемь тысяч марок, но остаться при часах. Он дал нам “слово джентльмена”, пообещав вернуться: типичный придурок буржуа, подумал я.
Выйдя из зала для игр, я сунул две банкноты по сто марок в карман фартучка Лидии, которая шла мне навстречу.
– Ты принесла мне удачу, – сказал я ей.
Она улыбнулась в ответ. Ровный ряд красивых белоснежных зубов. Чувственные, накрашенные лишь слегка губы. Вылитая Мишель Пфайффер, подумал я, такое же резко очерченное лицо с высокими скулами, только волосы черные.
Несколько минут я молча смотрел на нее, а она, покраснев, старалась уклониться от моего пристального взгляда. Да, определенно, Лидия была красива. Наконец я попрощался с ней и заметил у нее на предплечье темное пятно. Я не стал любопытствовать и вышел из клуба.
В те дни я охотился за деньгами. Я сильно в них нуждался: наша затяжная война требовала больших расходов, и я не мог идти на риск, грозивший тюрьмой. Следовало соблюдать осторожность, особенно в приобретении оружия – враги быстро догадались бы, против кого оно будет использовано.
Я начал понимать, что играю в очень опасную игру. Я сильно изменился: стал настороженным, сдержанным, задумчивым. Избегал ссор, не вел себя, как неразумный мальчишка, которому все нипочем, и старался не мелькать напрасно в людных местах. После убийства родных я стал другим человеком. Я даже не слишком доверялся Фофо.
“Спокойно, Фофо, не волнуйся, у меня все в порядке. Я иду к Микеле или еще к кому-нибудь…” – говорил я ему всегда. Я любил Фофо и не хотел втягивать его в войну: я едва избежал покушения в Дюссельдорфе, и Фофо лучше держаться подальше от меня. Если бы он попал в беду, я не простил бы себе этого.
С гневом и ужасом вспоминаю тот день вскоре после бойни, я тогда жил у своих родных в Дюссельдорфе.
Возвращаясь с прогулки, я заметил странное оживление возле дома: полиция досматривала двух человек в машине, припаркованной в неположенном месте. Чуть поодаль я увидел коренастого бородача – казалось, он прятался за рекламным щитом. Я мгновенно свернул на платную парковку, быстро взобрался на площадку верхнего этажа и сверху смог лучше рассмотреть, что происходит.
Полицейский, закончив досмотр, ограничился тем, что пожурил водителя за нарушение правил, вернул ему документы и пошел прочь. Когда полицейская машина уехала, бородач сразу же подошел к машине нарушителя и что-то сказал ему: я распознал сицилийский говор.
– Пора убираться отсюда! – почти крича, ответил тип за рулем, добавив, что у полиции уже есть некоторые сведения. Бородач пробурчал что-то вроде: “Хорошо, хорошо”.
Я мигом вспомнил, что в отдел регистрации иммигрантов на Сицилии я сообщил все данные о своей родне в Дюссельдорфе. И догадывался, кто мог разболтать эти сведения. Со стукачом я еще расквитаюсь, но сначала должен выяснить, кто эти люди из машины. Я узнал это несколько лет спустя из уст того самого типа за рулем – тогда я не знал его, а впоследствии он стал моим союзником. Он рассказал, что бородач был его земляком, по имени Миртилло. Они с братьями наводили страх на всю деревню. Безжалостные преступники, хладнокровные убийцы. Возможно, мне самому пришлось бы разделаться с ними.
Я не стал возвращаться к родственникам домой и сел на первый поезд до Гамбурга, стараясь успокоиться и не терять головы.
В Дюссельдорфе, убеждал я себя, опасность мне больше не угрожает, ведь убийцы поняли, что их опознали бы, попытайся они свести со мной счеты. Полиции известны их имена и внешность, и, если бы меня убили, их вычислили бы мигом. Это верно, как дважды два. Я мог не тревожиться.
Но, в любом случае, мне следовало уехать, я и так потерял много времени на подготовку к мести. Мои основные враги находились за решеткой, но скоро их освободят, и нужно встретить их в полной боевой готовности.
Есть фотография, которая служит мне закладкой в книге. Время идет, цвета на снимке тускнеют, но все равно эта фотография останется моей любимой и всегда будет лежать между страниц моих любимых книг, пусть даже совсем поблекшая.
Я помню момент, когда она была сделана. Мы только что пообедали, дед сидит во главе стола: очки на переносице, футболка, добродушное лицо. Я стою рядом, держа деда за руку. Я был счастлив и вовсе не подозревал, что несколько часов спустя, тем же вечером, деда пристрелят, как собаку.
Сегодня ночью я снова видел его во сне. Он чаще других снится мне. Чаще отца и матери. И я всегда вижу его живым, хотя потом особенно остро осознаю, что дед мертв. Это всегда простые, бесхитростные сны, которые переносят меня в дни отрочества.
Не проходит и дня, чтобы я не вспоминал деда. Его лицо с широкой улыбкой постоянно всплывает в памяти, сопровождая каждую мою мысль. И каждое мое действие – читаю ли я, умываюсь ли, ем, пью, бегаю, качаю пресс, пишу, учусь. Он всегда там, в уголке памяти. Иногда дед так добр, что приходит пожелать мне спокойной ночи.
А я все более убеждаюсь, что мой дед был особым человеком, настоящим мудрецом. Он передал мне настоящую свободу мысли, редкий дар в мире старых ханжей.
В семь лет дед подарил мне первый кожаный мяч. Мяч был таким красивым, таким тяжелым для моих маленьких ручек, таким блестящим. Я не мог на него налюбоваться. Некоторое время я даже не осмеливался с ним играть.
В восемь лет дед подарил мне первый велосипед и научил быстро крутить педали.
А однажды без предупреждения выбросил меня из лодки в море, чтобы я научился плавать. Я быстро превратился в настоящего ныряльщика. Страх глубины был мне неведом, и я мгновенно выучился разным техникам погружения. В итоге я мог находиться под водой дольше всех своих товарищей.
На ум приходят маленькие и великие истории, рассказанные дедом, – в том числе истории времен Второй мировой войны, в которой он участвовал в качестве добровольца и служил на английской подводной лодке, обладавшей мощным оружием – радаром. Я размышлял о многих вещах, которым дед меня обучил: от рыбной ловли до принятого у моряков способа ориентироваться по звездам, распознавать направление ветра и характер течений, вязать морские узлы. Он научил меня относиться к морю с почтением. “Это чуждая нам стихия”, – повторял дед.
Другой его страстью была политика. Портреты Маркса и Ленина висели в каждой комнате его большого дома. Ленина он мог цитировать по памяти: “Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб[13]”.
В восьмидесятые годы дед поддерживал Энрико Берлингуэра[14], чьи политические взгляды он всегда разделял. Помню, как он сердился на своих земляков и убеждал их голосовать за коммунистов ради освобождения страны от губительной и коррумпированной власти Демократической Партии, которая опиралась на священников, продажных политиканов и мафию. Дед говорил это в те времена, когда официально отрицалось существование мафии.
Но история показала, что он был прав. “Внучек, – наставлял он меня, – помни, что моральные нормы существуют и без Бога; Бог нужен властям, а не свободомыслящему человеку”.
Ошибался ли он? Не думаю.
Но дед ошибался – я должен признать и это – во многих других вопросах.
У него было довольно романтичное и наивное видение политики: если бы он стал свидетелем падения Берлинской стены, развала Советского Союза, конституцию которого знал наизусть – особенно статьи, утверждавшие, что советская экономическая система лучшая, а в социалистических странах не существует бедности, – правления Путина и прочих событий, он умер бы от разрыва сердца.