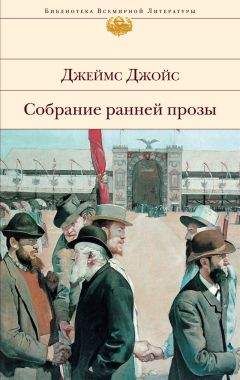— Вы хотите сказать…
— Я хочу сказать, что Ибсен рисует современное общество с тою же подлинной иронией, с какой Ньюмен рассматривает мораль и веру английского протестанта.
— Возможно, — сказал ректор, умиротворенный подобной параллелью.
— И с тем же отсутствием всякого миссионерского намерения.
Ректор промолчал.
— Вопрос темперамента. Ньюмен мог удерживаться двадцать лет от того, чтобы написать «Апологию».
— Но уж когда накинулся на него! — проговорил ректор со смешком, выразительно не закончив фразу. — Бедный Кингсли!
— Исключительно вопрос темперамента — отношения к обществу, будь то у поэта или у критика.
— Да-да.
— У Ибсена темперамент архангела.
— Возможно; но я всегда полагал, что он одержимый реалист, как Золя, и проповедует какое-то новое учение.
— Вы были неправы, сэр.
— Это общепринятое мнение.
— Однако ошибочное.
— Как я представлял, у него есть некоторое учение — социальное учение, о свободном образе жизни, и художественное учение, о необузданной распущенности, до такой степени, что публика не допускает его пьесы на сцену, а его имя даже нельзя называть в присутствии дам.
— Где вы такое нашли?
— Ну как же, всюду… в газетах.
— Это серьезный довод, — заметил Стивен осуждающим тоном.
Нисколько не будучи задет дерзостью этих слов, ректор, казалось, признавал справедливость их: он был самого низкого мнения о нынешних полуграмотных журналистах и заведомо не позволил бы, чтобы газеты навязывали ему свои суждения. Но вместе с тем по поводу Ибсена все мнения были всюду настолько единодушны, что он подумал…
— А можно узнать, многое ли из написанного им вы прочли? — спросил Стивен.
— Знаете ли, нет… Я должен сказать, что я…
— А можно узнать, прочли ли вы хотя бы одну его строчку?
— Знаете ли, нет… Я должен признаться…
— И полагаю, вы не считаете правильным выносить суждение о писателе, у которого вы не прочли ни единой строчки?
— Да, должен согласиться с этим.
Одержав эту первую победу, Стивен помедлил, колеблясь. Ректор заговорил снова:
— Меня очень заинтересовало ваше восторженное отношение к этому писателю. Мне самому до сих пор не выпало случая прочесть что-нибудь Ибсена, но я знаю, что у него самая высокая репутация. Должен сознаться, то, что вы о нем говорите, весьма изменяет мои взгляды на него. Быть может, я когда-нибудь…
— Если пожелаете, сэр, я могу вам дать некоторые его пьесы, — сказал Стивен с неосторожною простотой.
— В самом деле?
Оба сделали небольшую паузу: затем —
— Вы увидите, что это великий поэт и великий художник, — сказал Стивен.
— Мне будет очень интересно, — сказал ректор любезным тоном, — прочесть какие-то его вещи для себя, просто очень интересно.
Стивена подмывало сказать: «Извините, я отлучусь на пять минут — пошлю телеграмму в Христианию», но он преодолел искушение. За время этой беседы у него не раз являлась необходимость сурово подавлять безрассудного беса, который обитал в нем, имея ненасытный аппетит к фарсу. Ректор начинал обнаруживать либеральную широту своей натуры, однако сохранял подобающую духовному сану сдержанность.
— Да, мне будет необычайно интересно. Ваши взгляды довольно необычны. Вы собираетесь опубликовать этот доклад?
— Опубликовать?!
— Нежелательно, если кто-то примет идеи в вашем докладе за то, чему учат у нас в колледже. Мы управляем им на правах попечителей.
— Но вы же не обязаны нести ответственность за любые слова и мысли каждого студента в колледже.
— Нет, разумеется, нет… но все же, читая ваш доклад и зная, что вы из нашего колледжа, люди предположат, что мы насаждаем здесь такие идеи.
— Студент колледжа может, безусловно, выбрать свое собственное направление занятий.
— Именно это мы и стараемся всегда поощрять в студентах, но только ваши занятия, мне кажется, ведут вас к весьма революционным… весьма революционным теориям.
— А если бы завтра я опубликовал весьма революционную брошюру о мерах борьбы с картофельной чумой, вы бы считали себя ответственным за мою теорию?
— Конечно же, нет… но у нас не сельскохозяйственное учебное заведение.
— Однако и не драматургическое, — возразил Стивен.
— Ваши доводы не столь неопровержимы, как кажется, — сказал ректор после небольшой паузы. — Но я рад видеть, что у вас такое по-настоящему серьезное отношение к вашей теме. Тем не менее вам надо признать, что эта ваша теория — если довести ее до логического конца — освобождала бы поэта от любых нравственных норм. Я также замечаю, что вы в докладе намекаете иронически на то, что у вас именуется «древней» теорией — то есть на ту теорию, по которой драма должна иметь особые этические цели, по которой она должна наставлять, возвышать и развлекать. Я думаю, ваша позиция — Искусство ради Искусства.
— Я всего лишь довел до логического конца то определение, которое Аквинат дал прекрасному.
— Аквинат?
— Pulcra sunt quae visa placent[21]. По-видимому, он считает прекрасным то, что удовлетворяет эстетической потребности и ничему более — то, простое восприятие чего доставляет наслаждение…
— Но он имеет в виду возвышенное — то, что возводит ввысь человека.
— Картина какого-нибудь голландца, на которой блюдо с луковицами, тоже подошла бы под его замечание.
— Нет-нет, только то, что доставляет наслаждение душе, наделенной благодатью, душе, ищущей духовного блага.
— Определение блага у Аквината — ненадежная основа для рассуждения, оно крайне широко. Мне видится у него едва ли не ирония в том, как он говорит о «потребностях».
Ректор с некоторым сомнением почесал затылок.
— Конечно, Аквинат — необыкновеннейший ум, — пробормотал он, — величайший из учителей Церкви; но он требует нескончаемого толкования. Есть такие места у него, которые ни один священник не помыслит возглашать с амвона.
— А что, если я, как художник, отказываюсь соблюдать предосторожности, полагаемые необходимыми для тех, кто еще в состоянии первородной глупости?
— Я верю в вашу искренность, но вот что я вам скажу как личность постарше вас и как человек, имеющий некий опыт: культ красоты чреват трудностями. Бывает, что эстетизм начинается хорошо, но заводит в самые гнусные мерзости, о которых…
— Ad pulcritudinem tria requiruntur.
— Он коварен, он прокрадывается в ум тихой сапой…
— Integritas, consonantia, claritas[22]. Мне кажется… эта теория сияет блеском, а не таит опасность. Разум немедленно воспринимает ее.
— Конечно, святой Фома…
— Аквинат, безусловно, на стороне талантливого художника. Я не слышу от него ровно ничего про наставление и возвышение.
— Поддерживать ибсенизм с помощью Аквината мне кажется довольно парадоксальным. Молодые люди часто заменяют убеждения блестящими парадоксами.
— Мои убеждения меня никуда не увели; моя теория говорит сама за себя.
— А-а, так вы парадоксалист, — произнес ректор, улыбаясь с кротким удовлетворением. — Теперь я вижу… Но есть и еще одно — пожалуй, это вопрос вкуса скорей, нежели чего-то еще — что заставляет меня считать вашу теорию юношески незрелой. Не видно, чтобы вы понимали все значение классической драмы… Конечно, в своем собственном русле Ибсен тоже может быть замечательным писателем…
— Но позвольте, сэр! — перебил Стивен. — Классической школе в искусстве я воздаю почтение в полной мере. Вы, разумеется, не забыли моих слов…
— Насколько я помню, — сказал ректор, вознося к блеклым небесам слабо улыбающееся лицо, на коем память стремилась поселить пустую оболочку любезности, — насколько я помню, вы говорили о греческой драме — о классическом направлении — право же, совершенно огульно и с неким незрелым юношеским… сказать, что ли, нахальством?
— Но греческая драма — это драма героическая, чудовищная [sic]. Эсхил вовсе не классический писатель!
— Я уже сказал, что вы парадоксалист, мистер Дедал. Вы пытаетесь опрокинуть многовековые труды критиков блестящим оборотом речи, парадоксом.
— Я всего лишь употребляю слово «классический» в определенном смысле, с определенным заданным значением.
— Но вы не можете применять любую терминологию, какая заблагорассудится.
— Я не менял терминов. Я их разъяснил. Под «классическим» я понимаю неспешное кропотливое терпенье искусства удовлетворения. Искусство же героическое, фантазирующее я называю романтическим. Скажем, Менандр или не знаю там…
— Весь мир считает Эсхила великим классическим драматургом.
— Да, мир профессоров, которые благодаря ему кормятся…
— Сведущих критиков, — произнес ректор строгим тоном, — людей высочайшей культуры. И публика даже и сама способна оценить его. Я читал где-то… в газете, кажется… что Ирвинг, Генри Ирвинг, великий актер, поставил одну из его пьес в Лондоне и лондонская публика валила на нее толпами.