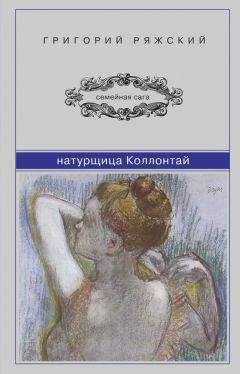Говорит:
— Не убились, милая? Как же вы так неосторожно?
Я:
— Это климатические сюрпризы действуют так на горожан. Где ж мне ботик натянуть?
И оглядываюсь, ищу глазами место.
Он:
— Так в машине у меня, прошу, запрыгивайте. Там и натянете.
Я и заскочила в три с половиной прыжка при его поддержке. И отвалилась на сиденье сзади, в себя прихожу. А пахнет там внутри авто его тоже неслабо, скажу тебе: и от одеколона хозяйского, и от обивочных материалов и деталей салона, и от одного только вида всего этого благополучия, сытости и покоя. Шофёр, вежливый, участливый, обернулся, тоже поинтересовался моим самочувствием.
Говорю:
— Спасибо вам огромное обоим, сейчас ещё одну минуточку только посижу, пока нога обратно не переподвернётся, и пойду. Я тут напротив, мне рядом, дохромаю.
Он:
— Даже не думайте, милая, даже и не помышляйте. Немедленно доедем сейчас до моего подъезда, я вас чаем напою с малиной и компресс сделаем из припарки. И снова будете как новенькая.
И улыбается. Хорошо так, не грязно, от души. Достойный дядька, я это сразу про него поняла. И снова не такой уж старый ещё, а просто в возрасте, в силе, в самом расцвете начала пожилой части лет.
Соглашаюсь тоже. Потом подумала, что всё правильно сделала, по уму. Если б покочевряжилась, посопротивлялась бы сначала этому щедрому предложению, подурковала бы какой-то интервал времени, то было бы хуже. Так ведут себя некоторые сомнительные дамы, которые думают, что знают себе цену и набивают её, потому что так соответствует привычности их поведения.
А я нет. Я открыто улыбнулась в ответ его улыбчивости и кивнула головой, безо всяких. Припарка так припарка, тем более что и правда подвёрнутое место болело у меня. А Паша на ещё три урока остался, помочь всё равно некому.
Поднялись на лифте, зашли.
Вот тут я нормально головой поехала, полным маршрутом. В прошлый раз обстановку его жизни я только с лестничной клетки краем глаза зацепила. А теперь в полный охват, от и до.
Скажу тебе, Шуринька, такого не думала вообще что бывает. Паша про такое сказал бы, наверно, культурный слой. А всё остальное? Мебель резная, картины маслом, в рамах таких широченных, что одного золота на них не меньше, наверно, чем на воротах в райские кущи. Комнат четыре. Пока он меня под руку держал и в столовую заводил, кабинет его через открытую дверь промелькнул. Вот там я стол своей мечты и обнаружила, всё как я придумала ещё в Башкирии про тебя: зелёный верх с письменным малахитом, ящички в огромных количествах, красного дерева, с золотом по ручкам, и неохватных размеров, для человека труда и безграничных знаний.
Сели на диван с резными подлокотниками и полосатым верхом: мебельный гобелен, а сам — барочный ампир, это я уже теперь про него знаю. Он засуетился, водички подогревать стал, марлечку в четыре слоя сложил с ваткой посредине, тазик под ноги, эвкалипт какой-то заварил. Сказал, завёз из Марокко, лучше нет помогает от любых хворей.
И тут — затыка. Нужно приложить компрессом к месту повреждения, а нога в чулке. Как быть?
Он замялся, и я замялась. Думаем.
Говорит:
— Я выйду, милая, а вы раздевайте себе ногу, мол, чтобы кожей к компрессу вышло, напрямую.
Киваю ему, верно сообразил.
Вышел он. Я чулок отстёгиваю, снимаю, кладу, готово, зову.
Входит, уже без галстука и пиджака. Но в остальном во всём, правда, хотя и в тапках, без туфель уже. На лице бодрость, улыбчивость всё та же, но с беспокойством лёгким, не укрылось от меня, увиделось. Я же их столько навидалась, наблюдателей моей натуры: и кто рисует, пишет, лепит и кому в этот момент ни до чего, а кто глаза в произведение своё же от меня прячет, смущается и тайно мечтает про мою плоть — угадываю теперь на раз.
Начинает компресс прикладывать, пока не остыл, а я начинаю размышлять про причину его беспокойства, про то, имеется ли во всём этом для меня второе дно, как приготовлено у иллюзиониста Кио, или же это просто вежливое соучастие в больной ноге. А руки его подрагивают, незаметно для него, но ощутимо для моей подвёрнутой щиколотки.
Он:
— Кстати, не успели за этой бедой познакомиться. Леонтий Петрович. Для друзей просто Лео. А вас как величать изволите, прекрасная пострадавшая незнакомка?
Я:
— Александра Михайловна. Для друзей просто Шуранька.
Он:
— Вот и прекрасно, Шуранька, вот и познакомились. Но коль уж я назвал вас именем для друзей, то и вы меня для друзей зовите, договорились?
А ногу не отпускает, прижимает к компрессу. И чуть-чуть вверх-вниз проводит, массирует как бы, в себя приводит её и себя.
И вдруг эвкалиптом этим так резко и приятно понесло из далёкого Марокко, по всем его неисчислимым метрам жилья, что голова просто кругом поехала, как лошадь по цирку. Я даже перестала понимать уже, больно ноге моей подвёрнутой или не было её вообще, боли этой и ноги, с самого начала этой необычной встречи на ледяной луже.
А он вдруг как вспомнил.
Он:
— Так у вас же мокро по низу, Шуранька. Давайте прогладим юбку вашу, а то неприлично потом по улице пойти, такое место самое неприглядное, и вдруг замочилось. А я утюжок поставлю, вместе с чайничком заодно. Ну что, договорились?
Бабушка, а что, разве можно ответить было, что не договорились?
Опять кивнула в ответ его приличным и участливым словам. Снова вышел он, снова я стянула с себя, а прикрыться нечем. Сижу дурой, в одном чулке, без юбки, жду чай этот и утюг с малиной. Извини, наоборот.
Входит внезапно, выждав, видит мою неприглядность. На миг тормозит, вижу — сам лошадью теперь вращается в мыслях, не меньше моего, решает лихорадочно, чего ему правильней предпринять.
Но решает справедливо, по уму. Выходит обратно, возвращается с махровым полотенцем, голову в сторону отворачивает, протягивает:
— Накиньте, милая, пока погладим одежду вам.
Набрасываю. Идём дальше по методике его: выздоровление и забота на почве уважительного мужского интереса к моей случайно подвернувшейся натуре.
А тут чайник вскипел. Он заваривает, с духовным тоже каким-то ароматом, подаёт ко мне на диван.
Он:
— Угощайтесь, Шуранька, вам это просто необходимо сейчас. А ещё лучше будет глоток чего-нибудь более согревающего, для тонуса и чтоб не заболеть.
И ждёт. И снова заметное волнение у него включилось, мужское, не прикрытое обходительностью и обстановкой.
И я поняла, сейчас, в эту секунду, что судьба решается чья-то. От этого моего ответа зависеть теперь будет всё остальное, куда всё покатится у нас, в какую географию, в какие марокки, в какие эвкалипты, райские кущи и врата. Про врата эти Паша обычно говорил, что зверю туда вход воспрещён, что зверь окажется в бездне, в пропасти, и сгорит в пожаре земного ядра. Как-то так, в общем.
А про него ничего не сказал. А я сказала.
Говорю:
— Не возражаю, Леонтий Петрович. То есть, извиняюсь, Лео.
Вижу, взбодрила его этими словами необычайно. А сама думаю, господи, да я ж в таких хоромах, может, теперь до конца жизни не окажусь, пусть делает, чего хочет: угощает, наливает, обихаживает. Мне тут тепло, уютно и как в кино. Куда спешить-то, на конюшню свою, что ли?
Короче, картина, смотри сама, Шуринька, рисую тебе.
Диванчик. На нём я, с одной голой ногой в горячем тазу с примочкой, с другой — в чулке. Юбки на мне нет, сверху ляжек полотенце, в руке чашка и блюдце с нездешним чаем, а в другую он мне налитый хрусталь подаёт, фужерный, до верха.
Как тебе такое?
И себе плеснул, до половины своего хрусталя, чтоб не расплескать содержимое, наверно, потому что так и продолжает рука его ходуном плясать, глазу моему видно все на просвет посуды.
Присел рядом на диванчик, по соседству.
Говорит:
— Это сухой херес португальский, настоящий, выдержанный. Пробовали такой, Шуранька?
Я:
— Никогда в жизни, Лео. Сейчас попробую им согреться, но только сразу после чая.
Он:
— Тогда за выздоровление и за удачу?
Я:
— За неё.
И хлебнула из чашки. А сразу вслед за этим из хрусталя, до конца. А он ужасно, вижу, удивился мне, такой моей отчаянности. И тут же сам глотнул, из своего. Принял опустошённый мой и поставил свой.
Я мысленно до двадцати шести считаю, у меня обычно после двадцати пяти всё растворяется и уходит в капилляры крови и сосуды мозга. А от этого португальского напитка ещё быстрей растворилось, уже после просчёта до четырнадцати.
Короче, поплыла, как венок, брошенный в Дунай, а кишками уже понимаю, что готова ко всему: разум ещё не сориентировался, а внутри уже всё решилось и просигналилось наружу. Мало того, бабушка, не просто воспринимаю это как безучастный факт, а и сама уже этого хочу. Ну, не стала бы противиться, если чего, так ощущаю в себе происходящее приближение.
Знаешь, мне с определённого момента жизни любой мужской возраст сделался нипочём. Первый мой, Паша, он же и последний покамест, настолько старше меня был и есть, что уже все прочие мужчины, какие в летах, не представляют для меня ни волнения, ни опасности, ни неожиданности для физических отношений. Это уже пройдено раз и навсегда. Остальное — да, важно, существенно: ум, честь, совесть, облик благородства, запахи, звуки голоса, умеренность в выражениях, к каким он готов ласкам, словам и многое ещё.