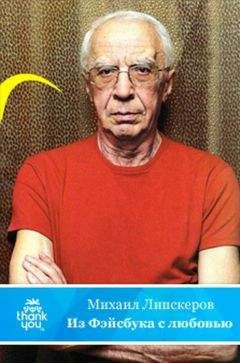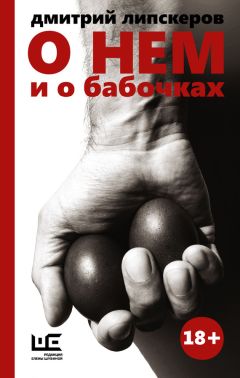— Мне больше никто не нужен! — объяснял Эндрю Васильевич. — Даже Иглесиас. Был бы жив Вертинский, его бы я нанял… В пару к моему лиловому негру!
Продюсер Жагин вообще не понимал, как его уговорили куда-то поехать, в какую-то дыру, слушать ксилофон. Господи, ксилофон!!! Еще бы гусли в пару!
Он не помнил, кто ему звонил и какие аргументы приводил (провал в голове полный), чтобы вот сейчас он поднимался по ступеням дома, загаженного маргинальными жильцами.
В его огромной жирной ладони спал карликовый кот по прозвищу Помазок. Кот был столь крошечным, что как-то продюсер Жагин после тяжелой пьяной ночи спутал животное с бритвенной принадлежностью и намазал с помощью него свою опухшую физиономию пеной для бритья. Кот завизжал так, что продюсера отпаивали неделю водкой, сделанной на березовом соке.
Жагин поднимался по лестнице и матерился искусно. Жильцы выглядывали поглазеть на того, кто так блистательно владеет фольклором, узнавали Самого, ахали и предлагали рюмочку. А кто и стакана не жалел. Принимал барином. Две тетеньки за пятьдесят поднимались следом и выпытывали у Самого информацию о его подопечных звездах: кто с кем и каким способом зарабатывает популярность. Жагин поклонникам снисходительно улыбался и с мата перешел на мяуканье известного шлягера, иногда насвистывая его, иногда тонким голосом забирался на высокие ноты. Ему было приятно сопровождение аборигенов. С утра его голову выкрасили в радикальный красный цвет, и ему казалось, что этот факт в этом месте обывателей уместен, напоминает им о социализме и советском флаге.
Он остановился у квартиры, к которой поднимался, и оглянулся, услышав, что прибыл к долбанутому чеченцу и его бабе, еще более долбанутой, чем сам зверь.
Русский человек уже генетически побаивается слова «чеченец», а потому у продюсера Жагина в животе булькнуло адреналином испуга.
Во попал, думал он быстро. Вот старый козел! И охрану оставил… Но на него смотрел его народ, а потому, сделав лицо бесстрашным, похожим на лик Че Гевары, господин Жагин ткнул в кнопку звонка и держал его нажатым, показывая свое раздраженное нетерпение. Дверь быстро открылась, и Самый увидел на пороге необычайной красоты женщину, икнул от смешанных водок и уже смягченный вошел в маленькую квартиру, где Настя приняла у него пальто и посюсюкала с Помазком. Кот был мужеского пола и лизнул девушке пальчик крошечным язычком, таким же красным, как и шевелюра Эндрю Васильевича.
Между тем продюсер сохранил высокомерное выражение лица — да и красавиц он перевидал ой-ёй-ёй, — спросил «куда же, милочка, мне проходить, не наслежу ли?» и, не дожидаясь ответных слов, важно ступил в комнату, в которой находился ксилофон.
Ему было абсолютно все равно, откуда торчит голова. Он, собственно, и не помнил, когда в последний раз видел этот странный инструмент — ксилофон. А то, что он сейчас его будет слушать, вообще удручало внутренности господина Жагина более, чем открытая язва. Еще бы на дудке сыграли! Сейчас, сидя в полуразрушенном кресле, он был похож на скисшую батарейку. Срочно нужна была сатисфакция.
— Собственно, с чего вы решили, что я занимаюсь струнными инструментами? — обратился он к женщине.
— Это не струнный, а ударный инструмент, — поправила Настя.
— Да хоть щипковый!
Конечно, он знал про ксилофон достаточно, имея за плечами тридцать лет музыкальной деятельности, а пять из них проработав дирижером народного ансамбля лагеря общего режима номер 163 бис 14, отбывая срок за незаконную концертную деятельность.
— Мы хотели, чтобы вы просто послушали! — успокаивала гостя Настя.
— Да вы знаете, сколько тысяч ежедневно мечтают об аудиенции! А миллионы CD, которые мне присылают всякие писявки, мнящие, что они суперзвезды?!!
Господин Жагин, разозленный сам на себя, принялся выбирать свое жирное тело из кресла, продолжая ругаться, что всякие отрывают Самого от подготовки главного концерта года, чуть было не отравили паленой водкой на лестнице, а Помазок вообще задыхается от здешнего климата!..
— Сядьте на место! — услышал Эндрю Васильевич властный голос.
— Что-о? — от внезапной ярости кровь прилила к его лицу, а Помазок тревожно замяукал, зажатый в руке продюсера чрезмерно.
— Сядьте же! — повторил голос.
В тембре этого голоса было столько власти, столько уверенности, что господин Жагин рефлекторно вернулся в кресло и, взглянув на голову, торчащую из-под ксилофона, понял, что голос принадлежал именно ей.
— С кем имею дело? — старался сохранить лицо Че Гевары продюсер. Чеченец, понял он. А чего косоглазый?
— Иван Диогенович Ласкин. Ксилофон.
— А почему «Диогенович»? — зачем-то спросил господин Жагин.
— Потому что один мой прапрапрадед решил повторить жизнь Диогена и прожил в бочке двадцать лет.
— И что?
— Как-то подул очень сильный ветер, бочка упала набок и покатилась по дороге, после прокатилась по всему городу, откуда когда-то ушел в отшельники прапрапрадед, затем тара вкатилась на гору, ну а уж оттуда, с самой вершины, упала на скалы.
— И?
— Мой прапрапрадед погиб. Разбился… Потом его сын также жил в бочке и перед смертью произнес единственную умную мысль…
— Какую?
— «Зачем я прожил в бочке столько лет, если я не родил ни одной приличной мысли?»
— Зачем вы мне это рассказываете?
— Вы сами заинтересовались… Но настрого наказал своим сыновьям не жить в бочках!
— Да-да, — согласился продюсер. — Хорошая история для промоушн!
— Вам виднее, — согласился Иван. — Я ксилофон. А Настя будет играть.
— Фантазия-экспромт Шопена! — объявила Настя и взяла молоточки.
Это действие, как она зажимала между фалангами свои палки, понравилось Эндрю Васильевичу, но он все равно протяжно и в голос зевнул. Она коснулась молоточками музыкальных брусков — и господин Жагин, его личностная структура в сей же момент распался на атомы, а когда композиция закончилась, вновь собрался из тех же атомов, но как-то по-другому.
Он опомнился мокрый от пота, с плачущей от восторга душой и глазами святого Андрея, сменившего взгляд Че Гевары. Сидя истуканом, не шевелясь, он держал раскрытой правую ладонь, в которую обильно нагадил карликовый кот Помазок.
Настя испуганно улыбалась и смотрела на продюсера, ожидая его приговора.
Между тем Эндрю Васильевич отчаянно мыслил. Он чувствовал, что в его большой груди произошли какие-то метаморфозы. Глянув на себя в зеркало, осознав свой наряд и красную шевелюру, он ужаснулся, но виду не подал, а продолжил напрягать мозг вопросом «что случилось?». Господин Жагин был слишком опытным деятелем искусств и шоу-бизнеса, в котором не приветствуется ряд чувств — таких, как щедрость, человечность и сострадание, хотя последнее относится лишь к людям, но никак не к животным. Вся эстрадная общность активно помогала собачьим приютам. Это было модно, и акции показывали по телевизору… Что случилось? — продолжал напрягаться господин Жагин. И сам анализировал. Ну, сыграли на ксилофоне… Ну, наверное, неплохо, может, даже талантливо, если он слезами облился. Дальше что?.. А дальше ничего… Он вновь коротко глянул на себя в зеркало. Ну, красные волосы — что в этом, собственно?.. А эти, как их… Музыканты… Да пошло все!!! В это мгновение организм господина Жагина вновь рассыпался на мириады атомов и вновь собрался в привычную комбинацию. Продюсер хотел было в грубой форме заявить свое возмущение, что время у него отобрали ценнейшее, как вдруг услышал что-то, напоминающее аплодисменты.
— Что это? — спросил.
— Хлопают, — ответила Настя.
— Зачем? — не понял Эндрю Васильевич. — То есть кому?
— Вероятно, — Настя оглянулась и посмотрела за окно, — Ивану Диогеновичу Ласкину!
— Все хорошие музыканты — евреи, — констатировал господин Жагин, выбрался из кресла и направился к окну, за которым рассмотрел картину поклонения жильцов близлежащих домов… Но кому? Какому-то ксилофону?.. Не может быть, ведь здесь он, Самый! Эндрю Васильевич увидел среди обывателей своего лилового негра, который неутомимо хлопал, открыв рот с великолепными зубами. Самый сделал царское лицо, развел широко руками и поклонился народу, насколько позволил живот.
— Пошел на х…! — услышал он из народа. Это бывший бомж Антон, уже одетый в робу грузчика, держа за руку крошечную веснушчатую девушку, профессионально высказался.
— Проваливай, жирная свинья! — вторили ему из собравшихся.
— Вали к своей сучке!
Он тотчас скрылся из проема окна, боясь снайперов и народного гнева. Вернулся в кресло и, засунув Помазка в карман пиджака, задумался вновь.
Хлопали не ему. Музыка была, и он плакал от нее — факт! Если простой народ плачет от Шопена, то здесь не просто фигли-мигли — здесь могут быть деньги, и деньги большие. А что до оскорблений… Как его только не посылали в жизни!