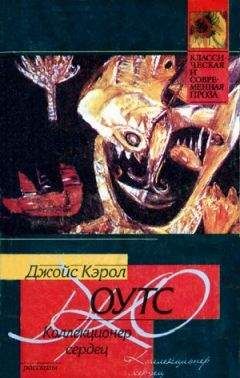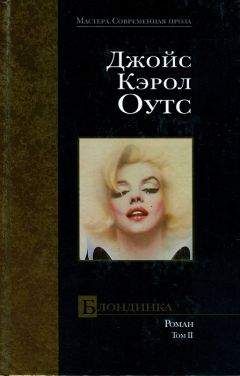Даррен запротестовал:
– Я ничего не говорил, сэр. Я…
Тут же вмешалась тетя Элинор:
– Даррен!
– Извините меня, сэр. Я больше не буду.
Дядя Ребборн рассмеялся. Похоже, этот короткий обмен репликами основательно его позабавил. В эту минуту, однако, машина подъехала к украшенному колоннами крыльцу, и дядя Ребборн, выключив зажигание, торжественно возвестил:
– Вот мы и дома!
До чего же непросто было войти в сложенный из розового песчаника дом дяди Ребборна! Не могу передать, какое странное и даже пугающее чувство овладело мной, когда все мы, съежившись и согнувшись в три погибели, протискивались сквозь входную дверь. Даже нам с Одри пришлось нагибаться, хотя мы с ней были самые маленькие и щуплые. Когда мы подходили к резной парадной двери, сделанной из дорогих пород дерева и декорированной по центру распластанным американским орлом из начищенной латуни, она странным образом уменьшалась в размерах. Чем ближе мы подходили, тем меньше становилась дверь, хотя, казалось бы, все должно было быть наоборот, ведь чем ближе мы оказываемся к тому или иному предмету, тем больше он становится – по крайней мере у нас создается такая иллюзия.
– Берегите головы, девочки, – предупредил дядя Ребборн, размахивая у нас перед носом указательным пальцем. Когда дядя говорил, его голос как будто клокотал от сдерживаемого смеха, и можно было подумать, будто все вокруг представляется ему абсолютно несерьезным, вот он и шутит, и подсмеивается. Но глаза его, сверкавшие как два стеклышка, выражение имели настороженное.
Как такое могло статься? Почему дом дяди Ребборна, выглядевший таким большим и просторным снаружи, оказался темным, тесным и жутким, когда мы в него вошли?
– Шевелитесь, дети мои, шевелитесь! Сегодня воскресенье, священный день отдыха, но и он не резиновый! – весело кричал, хлопая в ладоши, дядя.
Мы оказались в стиснутом со всех сторон стенами низком, узком помещении. В воздухе царил острый удушливый запах, напоминавший нашатырный спирт; поначалу я едва могла вздохнуть и до слез закашлялась. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, за исключением Одри, которая, схватив меня за руку, зашептала:
– Пойдем, Джун, пойдем, не надо злить папочку.
И мы пошли. Возглавлял процессию дядя Ребборн, за ним двигался Даррен, за Дарреном – тетя Элинор, потом Одри и позади всех – я. Мы ползли вперед на коленях: потолок был таким низким, что идти в полный рост было невозможно. На полу валялось битое стекло. Но почему здесь так темно? Где все окна, которые я видела снаружи?
– Весело, правда? Мы так рады, что сегодня ты с нами, Джун! – бормотала тетя Элинор. Как, вероятно, было неудобно и унизительно для такой женщины, как тетя, надевшей сегодня изящный ярко-желтый летний костюм, туфли на высоком каблуке и чулки, передвигаться на карачках в этой тесной дыре! Однако тетя Элинор продвигалась вперед без жалоб и даже улыбалась.
Мне на лицо налипла паутина. Было душно, и я с такой силой втягивала в себя воздух, что каждый вдох походил на всхлип, и это меня мучило: дядя Ребборн мог принять мои вдохи за рыдания и смертельно на меня обидеться. Несколько раз Одри до боли сжимала мою руку, призывая к тишине; тетя пихала меня в бок, чтобы я не очень шумела. Неожиданно дядя Ребборн весело воскликнул:
– Кто хочет есть? – И сам ответил: – Я хочу есть! – Потом он снова спросил, уже погромче: – Кто хочет есть?
– Я хочу есть! – словно эхом откликнулся Даррен.
Тогда дядя Ребборн, словно ведущий телевикторины, пронзительно выкрикнул:
– Кто тут хочет есть?
И на этот раз тетя Элинор, Даррен, Одри и я хором выпалили:
– Я хочу есть!
Ответ был верный, и дядя Ребборн залился счастливым смехом.
Двигаясь по постепенно расширяющемуся туннелю, мы добрались до полутемной комнаты, сплошь заваленной всяким хламом, рабочим инвентарем, инструментами и заставленной ящиками, бочками, сложенными в штабеля бревнами и металлическими баками с гудроном. В стене были вырублены два маленьких квадратных оконца, которые не имели стекол и были затянуты плохо пропускавшей свет полиэтиленовой пленкой, прикрепленной к рамам деревянными планками. В комнате было холодно. Я съежилась, обхватив себя руками, но никак не могла унять озноб, и Одри, желая призвать меня к порядку, одарила злобным взглядом и вдобавок ущипнула. Ну почему, почему, когда за окном такой теплый летний день, в доме дяди Ребборна так холодно? Несмотря на то что повсюду гулял сквозняк, в комнате стоял дурманящий запах аммиака, смешанный с запахами стряпни, и эта вонь мгновенно вызвала у меня позыв к рвоте. В эту минуту дядя Ребборн в своей насмешливой манере делал тете Элинор выговор за то, что она «маленько подзапустила дом – не правда ли, моя радость?» – а тетя Элинор пугалась, прикладывала руку к сердцу и, запинаясь, бормотала, что оформитель обещал завершить отделку дома в скором времени.
– До Рождества, стало быть, управишься? – с сарказмом вопрошал дядя Ребборн, а Даррен и Одри по непонятной для меня причине хихикали.
Плотно сидевшая на толстой сильной шее голова дяди Ребборна беспокойно поворачивалась из стороны в сторону, отчего его стеклянный взгляд настигал тебя в тот именно момент, когда ты была абсолютно к этому не готова. Белки у него имели какой-то особенный блеск, а зрачки были так сильно расширены, что глаза казались черными. Дядя Ребборн был мужчиной плотной комплекции, дышал тяжело и шумно, как кузнечный мех, а его ноздри, когда он с жадностью втягивал воздух, мелко-мелко трепетали. Бледная кожа цвела алыми пятнами на щеках и шее, и дядя производил впечатление человека, страдающего лихорадкой. В честь воскресного дня он надел тесный в плечах спортивный, в красную клетку, пиджак, белую сорочку с галстуком и темно-синие летние хлопковые брюки, к которым, пока мы двигались по туннелю, налипла паутина. На затылке дяди Ребборна проступала сверкающая розовая плешь, которую он, отрастив пряди волос на лбу и по бокам головы, старательно, но безуспешно зачесывал. Всякий раз, когда дядя улыбался, его щеки неприятно напрягались, а улыбался он постоянно. До чего же тяжело мне было смотреть на дядю Ребборна, всматриваться в его сверкающие лихорадочным блеском глаза и видеть улыбочку!
Теперь, когда я пытаюсь воскресить в памяти его лицо, на меня надвигается слепота, перед глазами возникает черный прямоугольник ■■■ и я всякий раз моргаю, чтобы восстановить зрение. Вдобавок, мысленно возвращаясь к событиям того злополучного дня, я дрожу как осиновый лист, а от подобной невротической реакции давно пора избавиться. Вот я и раскладываю обрывки своих воспоминаний чуть ли не по минутам, вытаскиваю их наружу – чтобы поскорее о них забыть навсегда. Зачем в противном случае копаться в памяти и реанимировать прошлое, если оно причиняет тебе боль?
Дядя Ребборн рассмеялся и погрозил мне пальцем.
– Ты непослушная девочка. Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал он, и лицо у меня вспыхнуло.
Мне почудилось, будто у меня даже веснушки раскалились, хотя я никакой вины за собой не чувствовала и не понимала, к чему он клонит. Одри, находившаяся рядом со мной, сразу нервно захихикала, но дядя Ребборн погрозил пальцем и ей.
– Ты, милочка, тоже непослушная – папочка тебя насквозь видит. – Потом он неожиданно замахнулся на нас, как замахиваются на съежившуюся от страха собаку, чтобы еще больше ее напугать или позабавиться над ее страхом.
Когда мы с Одри, вцепившись друг в дружку, отпрянули, дядя разразился хохотом, его кустистые брови взметнулись вверх – в знак того, что он крайне удивлен или даже обижен.
– М-м-м… уж не думаете ли вы, девочки, что я хочу вас ударить?
Заикаясь, Одри пробормотала:
– Нет, что ты, папочка, нет.
Я была так напугана, что лишилась дара речи и попыталась спрятаться за спиной Одри, которая тряслась от страха ничуть не меньше меня.
– Надеюсь, ты не думаешь, что я хотел тебя ударить? – обращаясь ко мне, спросил дядя Ребборн угрожающим голосом и как будто в шутку махнул кулаком рядом с моей головой. Прядка моих волос зацепилась за украшавший его палец перстень с печаткой, я вскрикнула от боли, а дядя разразился хохотом и чуточку смягчился. Наблюдавшие за нами Даррен, Одри и даже тетя Элинор засмеялись. Потом тетя пригладила мне волосы и прижала указательный палец к губам, вновь призывая меня к молчанию.
Я не непослушная девочка, захотелось мне крикнуть, и я ни в чем не виновата.
Стол, за который мы сели, чтобы воздать должное воскресной трапезе, был сделан из уложенных на козлы досок, стульями нам служили упаковочные ящики. Нам подавала крохотная женщина с оливковой кожей и свирепо вздернутой бровью, одетая в форменное платье из белого искусственного шелка, на голове у нее была наколка из такой же ткани. Она с угрюмым видом расставляла перед нами тарелки, хотя с дядей Ребборном, который болтал с ней напропалую, называя ее то «милашка», то «моя радость», обменялась-таки улыбкой. Тетя Элинор притворялась, что ничего не замечает, и угощала Одри и меня. Женщина-карлица смотрела на меня с презрением – догадалась, должно быть, что я «бедная родственница», – и ее темные глаза полосовали меня как бритва. Дядя Ребборн и Даррен ели с жадностью. Поглощая пищу, отец и сын одинаково горбились над импровизированным столом, низко склоняясь над тарелками, а когда жевали, то держали голову набок, и глаза у них при этом увлажнялись от удовольствия.