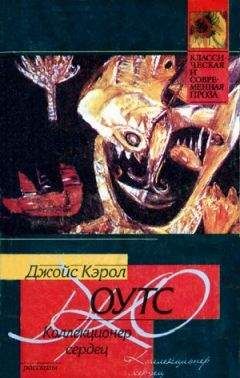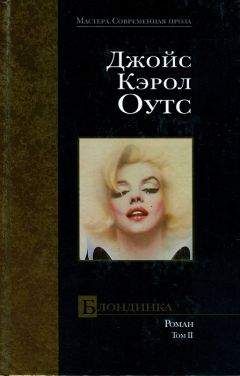Взглянув на меня и заметив, что я обиделась, Одри обняла меня своими тонкими холодными ручками. Я подумала, что сейчас она признается, как сильно по мне соскучилась – как-никак, я была ее самой любимой кузиной, – но Одри промолчала и не сказала ни слова.
За дверью снова раздался голос дяди Ребборна. Хлопая в ладоши, он кричал:
– Эй, вы там! Побыстрее шевелите попками! Раз-два – и собрались! День-то не резиновый! Обидно будет, если мы упустим солнце!
Когда мы с Одри вышли в купальных костюмах из ее комнатки, тетя Элинор сразу схватила нас за руки и торопливо потащила к выходу. Мы пролезли сквозь маленькую дверцу, похожую на пробитую в стене дыру, выбрались наружу и оказались на лужайке заднего двора дома дяди Ребборна. То, что на расстоянии представлялось свежей зеленой травкой, при ближайшем рассмотрении оказалось ее синтетической имитацией, искусственным газоном. Задний двор заканчивался обрывом, откуда начинался спуск к причалу – такой крутой, что нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы не сорваться с тропы вниз. Впереди рысцой бежали дядя Ребборн и Даррен в одинаковых золотистых, с голубой каемочкой, плавках. Тетя Элинор надела купальник из белого атласа, открывавший ее костлявые плечи и грудь, и вид тети в купальнике неприятно меня поразил. Она окликнула дядю Ребборна и сообщила ему, что неважно себя чувствует. Яркое, жаркое солнце вызвало у нее приступ мигрени, и она опасалась, что прогулка по озеру не пойдет ей на пользу. Тетя Элинор спросила, не станет ли он возражать, если она вернется домой. Но дядя Ребборн крикнул ей через плечо:
– Нет, черт возьми, ты будешь кататься с нами! Разве мы для того купили эту гребаную лодку, чтобы она стояла на приколе?
Тетя Элинор болезненно поморщилась и пробормотала:
– Да, дорогой.
Дядя Ребборн, повернувшись, подмигнул нам с Одри и сказал:
– Хм… Попробовала бы ты сказать «нет», так узнала бы, почем фунт лиха. Корова.
К тому времени когда мы добрались до причала и ступили в лодку, поднялся холодный ветер, а солнце исчезло с неба, как будто его стерли ластиком. Сразу повеяло осенью – можно было подумать, внезапно наступил ноябрь. Небо мгновенно затянуло тяжелыми, словно бетонные глыбы, серыми тучами. Дядя Ребборн мрачно, посмотрел на небо и, будто продолжая прерванный разговор с женой, заметил:
– …Купил, понимаешь, эту чертову лодку, чтобы ходить под парусом и получать удовольствие, – для семьи, между прочим, купил – а когда я говорю «для семьи», я имею в виду всю семью – целиком.
Пока дядя отвязывал лодку и отводил от причала, суденышко рыскало из стороны в сторону, кренилось на борт и вновь выпрямлялось – короче, вело себя как живое существо с весьма задиристым норовом.
– Первый помощник! Вперед смотреть! Куда ты, парень, черт возьми, запропастился? Давай шевели задницей! – одну за другой выкрикивал команды дядя Ребборн, пока бедняга Даррен, который не успевал выполнять все его указания, тянул что было сил выскальзывавший у него из рук канат, пытаясь распустить по ветру тяжелый, влажный от брызг большой парус. Ветер, казалось, дул со всех сторон одновременно, и паруса то надувались, то снова бессильно опадали. Даррен старался изо всех сил, но все у него получалось не так, как надо. Он был неуклюж, с плохой координацией движений, и к тому же как огня боялся отца. От напряжения полное лицо Даррена приобрело пепельный оттенок, а глаза вылезали из орбит и бесцельно, как у безумного, шарили по горизонту. Золотистые плавки Даррена из сверкающей синтетической материи так тесно облегали пухлое тело, что над животом нависала складка жира, которая потешно колыхалась всякий раз, когда он делал резкое движение. Бросившись исполнять очередное распоряжение дяди Ребборна, Даррен упал на колено, попытался было подняться, но поскользнулся и рухнул снова – на этот раз на живот. Дядя Ребборн, на котором, за исключением плавок и морской фуражки с длинным козырьком, ничего не было, с презрением посмотрел на него и гаркнул:
– Поднимайся, сын! Разворачивай по ветру этот гребаный парус, иначе я объявлю тебя мятежником!
Лодка находилась уже на расстоянии тридцати футов от причала и как бешеная раскачивалась на воде, которая теперь была вовсе не такой голубой и прозрачной, какой казалась мне с берега. Вода потемнела, приобрела серо-стальной оттенок и была холодна как сталь. Ветер завывал на все лады и дул не переставая, но на лодке не было каюты, укрыться от пронизывающего ветра было негде. Единственную скамейку занял дядя Ребборн. Я была напугана до смерти: мне чудилось, что лодка вот-вот опрокинется, меня смоет с палубы волной и я утону. Прежде мне не доводилось плавать на такой большой лодке, иногда, правда, мы с родителями катались на гребной лодочке по пруду в парке Хэмтрэмка.
– Тебе нравится? Кататься на лодке под парусом – величайшее удовольствие, верно? – вопрошала тетя Элинор, с лица которой не сходила широкая, словно нарисованная улыбка.
Но дядя Ребборн, заметив мое побледневшее, осунувшееся лицо, перебил жену и, обращаясь ко мне, вскричал:
– Не трясись так, никто сегодня не утонет, а уж ты – тем более. Неблагодарная маленькая тварь!
Тетя Элинор ткнула меня локтем в бок, улыбнулась и приложила палец к губам. Дядя Ребборн, конечно же, пошутил – как обычно.
Несколько минут нам казалось, что ветер задул наконец в нужном направлении: паруса наполнились, а лодка перестала рыскать и пошла ровно, как по ниточке. Даррен изо всех сил тянул за снасти, стараясь, чтобы парус не развернуло. Неожиданно мимо нас промчалась роскошная белая яхта, которая была раза в три больше лодки дяди Ребборна. Она возникла из туманной дымки неслышно, как призрак, и поднимая большую волну, прошла рядом. Лодка дяди Ребборна содрогнулась всем корпусом и стала зарываться носом в волну. На яхте взвыла сирена, но было уже поздно: нос лодки ушел под воду, а на палубу потоком хлынули ледяные валы. Я сразу потеряла из виду Одри и тетю Элинор и, содрогаясь от ужаса при мысли, что меня может смыть за борт, вцепилась обеими руками в первую попавшуюся снасть. Как же я тогда испугалась – словами не передать! Это тебе наказание. Теперь ты знаешь, что ты – плохая. Дядя Ребборн, скорчившись на носу лодки и сверкая глазами, выкрикивал команды, но медлительный Даррен был не в состоянии их исполнить и удержать парус от поворота. Тяжелая рея, к которой был привязан большой парус, крутанулась, пролетела у меня над головой и свалила Даррена в воду. Дядя Ребборн кричал:
– Сын! Сын! – Он схватил деревянный шест с крюком на конце и стал тыкать им в пенящуюся воду в надежде подцепить моего кузена, который шел ко дну, как узел грязного белья. Потом, правда, Даррена подхватила волна и выбросила на поверхность, но неожиданно он опять начал тонуть – на этот раз его стало затягивать под корму.
Расширившимися от ужаса глазами я наблюдала, как он, беспорядочно колотя руками и ногами, погружался в бездну. Одри и тетя Элинор, оказавшиеся у меня за спиной, кричали:
– Помогите! Помогите!
Дядя Ребборн, не обращая внимания на их крики, перебежал к другому борту лодки и тыкал в воду шестом до тех пор, пока крюк за что-то не зацепился. Дяде удалось-таки подцепить Даррена, и, когда он вытаскивал сына из воды, от напряжения у него на лбу проступили походившие на червячков жилки. Крюк вонзился Даррену под мышку, и бок у него заливало кровью. Я смотрела на Даррена, спрашивая себя, жив ли он, и не находила ответа на этот вопрос. Тетя Элинор истерически взвизгивала. Даррен лежал на спине, подобно жирной, бледной рыбе, а дядя Ребборн суетился над ним. Он развел в стороны руки и ноги сына и стал попеременно то сдавливать, то отпускать его грудную клетку, ускоряя темп: сдавил – отпустил, сдавил – отпустил. Так он делал до тех пор, пока у Даррена изо рта не стала извергаться пена, вода, рвота и он, откашливаясь и отплевываясь, не задышал снова. По раскрасневшимся щекам дяди Ребборна текли жгучие, злые слезы.
– Ты разочаровал меня, сын! Ах как разочаровал! Я, твой отец, человек, который дал тебе жизнь, недоволен тобой!
Неожиданно налетевший порыв ветра сорвал с головы дяди Ребборна капитанскую фуражку, закружил ее в воздухе, а потом швырнул в подернутые дымкой серо-стальные воды озера Сент-Клер.
Мне рекомендовали оставить попытки воскресить в памяти те мгновения прошлого, скрытые от меня ■■■ ■■■ этими черными метами постигшего меня временного «затемнения сознания». Невролог утверждает, что никакая это не слепота, но разве у меня нет права на память? На мое собственное прошлое? Почему я должна быть лишена такого права?
– Чего ты боишься, мама? – спрашивают меня мои дети иногда в минуты игр и забав. – Кто тебя так напугал? – Как будто со мной ничего по-настоящему значительного и пугающего никогда и ни при каких обстоятельствах не могло и не может случиться.