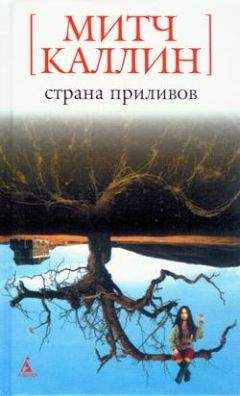А Диккенс, обхватив себя руками за плечи, забивался в какой-нибудь угол дома и перепуганным голосом умолял: — Прости меня, пожалуйста, прости, не надо…
Он взял мою руку:
— Нам лучше пойти. Если акула-монстр застанет нас здесь, мы обречены. Лучше нам спрятаться.
И мы снова пошли. Диккенс шагал впереди, я за ним, раздумывая, массирует он Делл ноги на ночь или нет. Я без конца представляла себе складки жирной плоти, в которых тонут пальцы, и поднятую руку, готовую опуститься и покарать за малейший проступок.
— Псина паршивая!
Это слова моей матери, она часто звала меня так; иногда в шутку, но по большей части всерьез.
— Псина паршивая! Ах ты, псина паршивая!
Что я теперь не так сделала? Слишком слабо массировала? Или, наоборот, слишком сильно? Или долго мяла одно и то же место?
Не вставая с постели, она пыталась достать меня своими толстыми ногами. Я всегда знала, когда она начнет лягаться: сначала она всхрапывала, потом сердито фыркала, выдыхая. И я всегда легко увертывалась от ее пинков. Я была быстрой. А у нее ноги двигались, как в замедленной съемке. Зато с руками другая история.
— Ты псина паршивая! — огорошила я Диккенса, как раз вернувшегося из зарослей джонсоновой травы, которые у него были вместо туалета. — Описал всех рыб с водорослями.
— Нет, — сказал он, мотая головой, — сама ты псина!
Мы сидели: внутри «Лизы».
Точнее, «Лизы-2», как Диккенс называл свой шалаш после ремонта: он залатал провалившуюся крышу, выбросил велосипед и покрышки. Это был ее первый поход, и мы вместе обследовали дно океана, надеясь на встречу с акулой-монстром, но приближался вечер, мы устали и поднялись на поверхность.
— Во что теперь будем играть?
— Я подумаю.
Лучи близящегося к закату солнца проникали в подлодку сквозь щели в корпусе, падали на нас, подсвечивали редкие волоски, которые росли из сосков Диккенса. Он похлопал себя по выступающим ребрам; его грудная клетка, гладкая и чистая, казалась почти прозрачной.
— Пошли в автобус, — сказала я. — Оттуда лучше всего наблюдать за светлячками. Они к нам прилетят.
— Я не могу.
— Почему? Поиграем.
— Мне нельзя туда ходить.
Диккенс замолчал. Посмотрел на пуговицу у себя на животе.
— Если представить, что автобус — это наживка для акулы, и отогнать его на рельсы, а он перевернется и сгорит, попадешь в беду. И тогда тебе уже нельзя подходить к нему, никогда.
И он бросил на меня серьезный взгляд. Его пальцы во вьетнамках двигались.
— И вообще мне водить нельзя, ты же знаешь. И автобусы красть тоже, и все остальное. Из-за этого у меня неприятности, даже если это миллион лет назад было. Мне еще повезло, что они насовсем меня не заперли, ясно? И повезло, что я сам не сгорел и не умер. А шериф Уоллер сказал, что для этого нужны права, но даже с правами автобус брать нельзя, потому что автобус — это не то же, что папин трактор. На автобусе нельзя ездить по рельсам, а то он перевернется и сгорит, пора бы тебе знать это. И тогда тебя запрут далеко-далеко, куда я не смогу за тобой приехать.
— О, — сказала я, не зная, что и подумать.
«Капитан, вы глупо себя ведете, — подумала я. — Вы сошли с ума».
Он пробормотал:
— Иногда, когда все время о чем-то думаешь, просто представь, что этого никогда не было, понятно?
— Понятно, — ответила я, не понимая, с кем он говорит: со мной или сам с собой.
Потом он встал и сказал:
— Пойду лучше домой и поем. Хватит играть сегодня.
Мне было все равно. Играть надоело. Мой желудок истосковался по крекерам и хлебу.
— Но ты еще должен спасти мою подругу, ты же обещал.
— Я не знаю как, — сказал он. — Я ошибаюсь, когда пытаюсь сделать что-нибудь.
— Я тебе покажу, — сказала я. — Ты обещал.
И тут уже я взяла его за руку и не собиралась отпускать ее до тех пор, пока он не встанет на колени рядом с дырой и не просунет туда руку, чтобы вытащить Классик.
— Но…
— Нет, ты обещал, — сказала я и потянула его за руку.
Скоро я уже шагала вдоль насыпи, ведя Диккенса за собой. Голова у меня кружилась, в желудке урчало от волнения и голода. Мы прошли мимо лужка, на котором росли колокольчики Делл. Потом зашагали через ту часть поля, где уже убрали зерно, — белые соломинки, которые позолотило вечернее солнце, приминались под нашими ногами, и направились к тенистой тропе, где над нашими головами перекрещивались ветви мескитовых деревьев. Позади меня хлопал вьетнамками Диккенс.
А когда мы подошли к норе, я ослабила хватку и объяснила, как Классик соскользнула у меня с пальца.
— Но она здесь рядом. Только у меня руки не такие длинные, как у тебя, и я не могу ее достать, а ты сможешь. Она правда близко. Нора вообще не глубокая, она только снаружи кажется глубокой.
Диккенс встал на колени. Он уставился в нору, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте.
— А что у тебя за подруга такая? — спросил он.
— Голова. Голова от Барби.
— Она кусается?
— Нет. У нее рот вот такой…
И я на мгновение сделала губы бантиком.
— И зубов у нее нет.
— Хорошо, — сказал он, кивая.
Потом его рука медленно погрузилась в нору, целиком, до самого плеча. Вытащив обе половинки ветки, он отшвырнул их в сторону, и его рука снова скользнула внутрь. Потом наружу.
Пригоршня грязи и камней.
Снова внутрь.
На этот раз, пока он шарил внутри, его лицо приняло напряженное выражение. Мое сердце бешено заколотилось.
— Не знаю, — сказал он. — Ничего не нахожу.
Я встала рядом с ним на колени и заглянула внутрь:
— Погоди-ка. Вот она. Это точно она. Точно…
Наружу.
Продолговатый камень, больше, чем Классик, лежал у Диккенса в ладони.
— Чудная она, — сказал он. — Совсем не похожа на голову, не такая, как ты говорила.
Я вдруг ужасно устала, и у меня закружилась голова. Взяв с его ладони камень, я уронила его на землю.
— Нет, — сказала я. — Нет, нет.
— Больше там ничего нет, — сказал он мне. — Совсем ничего, ясно? Только грязь и еще грязь.
— Она умерла, — сказала я.
Вдалеке раздался свисток электровоза. Диккенс обернулся и посмотрел в направлении рельсов.
— Ух-ху, акула-монстр уже близко.
И он сделал губами такой звук, как будто что-то взорвалось.
Но тут все вокруг завертелось, так что я зажмурила глаза. Мое тело отяжелело. И я грохнулась лицом вниз. Что было потом, я почти не помню, — помню только ощущение падения. Помню, как нырнула в дыру, в кромешную тьму внутри, и исчезла в ней. Земля поглотила меня.
Рокочущий затонул.
Когда я пришла в себя, то оказалось, что я лежу на отцовской кровати — только наоборот, головой туда, где должны быть ноги, —плохо соображаю, в голове у меня пусто, во рту сухо; все вокруг плавает в ультрамариновой дымке. Потолок. На тумбочке у кровати горит ночник. Мое платье, мои ноги, мои кроссовки. Отцовский рюкзак, кучка нестираной одежды и бутылка из-под персикового шнапса лежат как попало у меня в ногах. Все синее и слегка не в фокусе.
«Морское дно», — думаю я.
Кончиками пальцев касаюсь лица, ожидая почувствовать мокрое. Широко открываю рот, ожидая, что вот сейчас внутрь меня хлынет поток воды, но вместо этого хватаю ртом воздух. И тут я понимаю, что на мне синие плавательные очки, а их резинка давит мне на уши.
— А потом ты полетела, — сказал Диккенс.
Повернув голову набок, я увидела его. Он сидел на ковре и играл с Волшебной Кудряшкой, Джинсовой Модницей и Стильной Дев– чонкой. Все три головки лежали на его выпрямленной ладони, которая была ковром-самолетом, парившим над его коленями, а сам он дышал под водой легко, словно золотая рыбка.
— Мы затонули, — прохрипела я.
Диккенс посмотрел на меня, и его ладонь застыла в воздухе.
— Нет, — ответил он тихо, — Делл говорит, ты спи, пока она с ним не закончит. Или, — она говорит, — если проснешься, то лежи здесь и поешь чего-нибудь, ладно? Тебе повезло, что она такая сильная и смогла тебя донести, — повезло, что она спасла тебя, а то я бы тоже грохнулся в обморок.
Делл спасла меня.
— Она пила мою кровь?
— Она такого не делает. Это нехорошо.
— А-а.
В животе у меня заурчало.
— Я есть хочу, — сказала я ему.
— Так она и сказала, — пробормотал он, возвращаясь к кукольным головкам. — Она это уже говорила.
Его ладонь опустилась на пол, одну за другой он снял с нее все головки и аккуратно поставил их на ковер.
— Экскурсия к кратерам благополучно завершилась — за время путешествия к Луне никто не пострадал.
Потом он встал с пола и подошел к тумбочке. А я приподнялась на локтях, сдвинув на лоб очки, чтобы лучше видеть, что он делает.
— Я пить хочу ужасно.
Я сощурилась: без очков комната казалась непереносимо яркой.