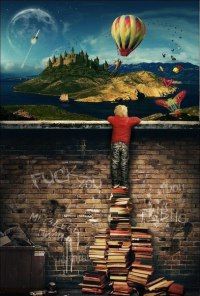И вообще, человек в деревне гораздо больше зависит от капризов природы, а потому находится к ней несравненно ближе.
Пурга, например. В городе ее, может, даже и не заметишь. Так, поежишься, пробегая десяток шагов от своего подъезда к остановке автобуса или к машине, спрячешь лицо в воротник. Да еще пожалуй чертыхнешься, в двадцатый раз за день сметая с автомобиля новый сугроб снега. Вот, пожалуй, и все.
А в деревне — нет. Потому что здесь стихия мало чем изменилась со времен Пушкина и, скажем, «Капитанской дочки». За пару часов метели единственная дорога, ведущая к цивилизации, дорога, которая к марту представляет собой каньон в двухметровых отвалах снега, перестает существовать, снег равняет ее с окружающими полями так, что даже не определить, где она проходила, и нужно ждать бульдозер, который опять пророет в чистом поле двухметровую траншею. В пургу все сидят по домам, по окна занесенные сугробами.
Если дождь — из дома без нужды не выйдешь. Завывающий в трубе ветер наводит тоску. А ледоход на реке! Вам даже не представить это долгожданное событие, переворачивающее всю жизнь! Зато какой восторг и умиление испытываешь от запаха оттаявшей земли, от пения птиц, просто от весенней грязи, обещающей скорое тепло, жару, лето.
Может быть, именно поэтому и телевизионные передачи производят здесь совсем другое действие. Потому что странным образом исчезает эффект присутствия. Имеющее место на экране так далеко от здешних забот и разговоров, что, кажется, происходит где–то на другом конце света, в Америке.
Новости местного масштаба кажутся интереснее телевизионных. Их мы все и обсуждаем: дрова, качество хлеба в местном магазине, загул главного агронома…
Скоро пойдет третий месяц, как мы здесь. Одичали, обросли бородами.
И вы знаете, Йохан таки переупрямил все местное население.
Я вам писал о его методах. Которые привели к тому, что с этим занудой перестали спорить — себе дороже будет, а он все равно не отстанет. Стали, делать, как он говорит. Сначала понемногу, нехотя… Потом все больше и больше. А потом втянулись!.. И дело со скрипом стронулось с мертвой точки. Порядка стало больше. Появился учет… Возникло понимание, что чистота — не только для красоты… А потом и показатели пошли вверх. Да и лица у коров стали как–то веселее…
Народ дрогнул. В отношении к Брамсу появилось почтение. Когда он идет по улице, люди специально переходят на другую сторону, чтобы с ним поздороваться.
И мой Йохан заметно повеселел: значит все в порядке. Он не зря ест здесь свой хлеб с маслом.
Теперь после обеда он позволяет себе посидеть на лавочке со здешними доярками. Греется вместе с ними на солнце. Калякает о том, о сем. Доярки научили его лузгать семечки…
А вечерами он играет в домино с местной технической интеллигенцией — агрономом, главным инженером и зоотехником. Играют они «на кукареку» — кто проиграл, выглядывает из окна в палисадник и кричит петухом. Между прочим, играет Брамс виртуозно — домино, оказывается, и в Голландии очень популярно. То и дело над деревней разносится то агрономовское, то зоотехниковское «кукареку».
К нему теперь относятся почти с нежностью: гляди–ка ты, вроде бы и на мужика не похож, а характер…
То и дело приносят, кто сырничков, кто вареньица… Наша хозяйка, по–моему, ревнует.
Может быть, когда–нибудь я напишу об этом забавном Йохане Брамсе и нашей с ним жизни в Ломоносовских Холмогорах. Боюсь только, что для вашего журнала этот рассказ не подойдет.
А пока посылаю вам еще один опус. Прошу любить и жаловать: Люда и Трофимов.
Ваш Сергей
— Представляешь, он будет платить 100 долларов в день! — возбужденно говорила Люда встречавшему ее с работы мужу. — В день! Две недели в Архангельске — и можно купить машину!
Трофимов как–то странно кивнул, но Люда не заметила настроения мужа.
— Конечно, — продолжила она, — переводить четырнадцать часов подряд — каторжная работа… На выставочном стенде, потом переговоры, обед, ужин… Но иностранец, кажется, симпатичный. Торгует лесом. И потом, сто в день! Представляешь! Люди за эти деньги целый месяц…
Трофимов криво усмехнулся.
— Представляю, — мрачно сказал он. — Я ведь и сам…
— Ты — это другое, — спохватилась Люда, но поняла, что как раз нет, то же самое, и умолкла. И до дома они больше не разговаривали.
Трофимов и Люда дружили с первого курса — как–то сразу выделили друг друга, ощутили взаимное доверие, и через некоторое время стали неразлучны. На лекциях писали один конспект. Вместе возвращались домой. На третьем курсе Люда решила учить язык, и они вместе пошли на курсы, хотя Люде английский давался легко, а Трофимову туговато. К концу учебы они даже внешне стали как–то похожи.
Трофимов несколько раз предлагал Люде выходить за него замуж, но Люда все откладывала. Не то чтобы она сомневалась в нем или в своих чувствах. Нет. Трофимов симпатичный. И очень надежный. Разве что какой–то несовременный, слишком честный. Но это Люде даже нравилось. Но если семья… значит нужно где–то жить… А у ее родителей двухкомнатная квартира и еще младшая дочь. А у него с мамой, вообще, коммуналка… Да и потом, нужны деньги, работа… Без этого что за жизнь?
Перед дипломом Трофимов сказал, что нашел для них место на метеорологической точке. Зарплата приличная и дают жилье. Правда нужно уезжать из Питера. Но прописка сохраняется, можно поехать на точку на год или на два. Для начала. И что, если Люда не поедет, он уедет один. И тогда ему будет все равно, и он завербуется в ОМОН на Кавказ. И там наверняка погибнет. Люда подумала–подумала и согласилась ехать.
Она ехала с тревогой. Куда? Из столицы, от друзей. Даже всплакнула тайком в поезде. Но крохотный южный городок ей неожиданно очень понравился. Красные крыши, утопающие в садах, буйство акации, палисадники, цветы, люди здороваются друг с другом на улицах; их домик в два окошка, чистенький, уютный, вишни, заглядывающие прямо в окно… За специальным забором метеорологические приборы: крашенные белой краской зонтики, вертушки, на шестах мерные стаканы, полосатые баллоны для определения силы ветра.
А через пару недель она уже с ужасом думала о том, что сомневалась и могла сюда не поехать. Работы было немного, каждые два часа снимать показания и отправлять по старинному телексному аппарату в центр. Все остальное время Трофимов заботился о том, чтобы Люда не пожалела о том, что поехала. Таскал цветы. Хлопотал по дому. Искал для нее слова в словаре, когда она для практики переводила английскую книжку. А то и просто сидел, держа ее за руку. Смешной, она и без этого чувствовала, что всю жизнь неосознанно мечтала именно об этом, о том, чтобы быть хозяйкой, женой. Никогда еще она не была такой счастливой и спокойной. Кроме того, она вдруг поняла, что ужасно любит своего Трофимова. От одного вида того, как он бреется, или таскает воду из колодца, или ремонтирует калитку, от взгляда на его стриженый затылок, немного оттопыренные уши, от рук, покрытых веснушками, ей становилось легко и хорошо на душе, что–то теплело под ложечкой.
Казалось, она могла прожить так всю жизнь. Но через год они все же решили, что пора возвращаться. Иначе жизнь уйдет вперед и потом ее уже не догонишь. Дальние родственники Люды уезжали по контракту в Канаду, за гроши сдавали квартиру. Это и решило дело.
Переезжали в марте. Когда в городке цвел грецкий орех… А приехали в Питер и попали в слякоть, грязь, в эпидемию гриппа.
Люде сразу повезло. Ее переводом заинтересовалось издательство, а ей самой предложили работу в бизнес–бюро. Бюро встречало иностранных предпринимателей, устраивало в гостиницах, помогало в переговорах и отдыхе. Организованная Люда быстро пришлась ко двору. И ей нравилась эта работа. Иностранцы попадались, как правило, цивилизованные, предупредительные, веселые и какие–то воспитанные… Непринужденно держались и в театре, и в ресторане, и на дипломатическом приеме. Да и деньги… Платили в бюро очень и очень хорошо. Особенно теперь, когда Люду стали приглашать для сопровождения в другие города…
А Трофимов все никак не мог как следует устроиться. Работы по специальности не было, он мыкался с места на место. То продавцом, то охранником, то на выборах… И чем лучше шли дела у Люды, тем грустнее он становился. И деньги, которые она приносила, его не радовали. Он почему–то воспринимал их как укор.
…В тот вечер они долго не разговаривали. Трофимов чинил полочку в ванной. Люда собиралась в Архангельск и все думала, думала…
А когда они сели ужинать, вдруг сказала: