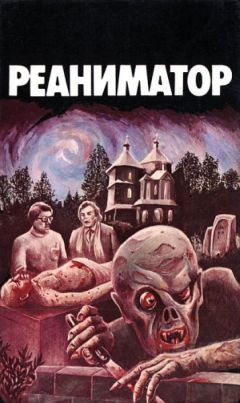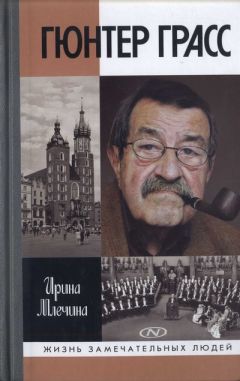И Великий Мальке с оттопыренными локтями проследовал за оберштудентратом Клозе в директорский кабинет, сдернув с «ежика» свою пилотку: его уступчатый затылок. Гимназист в военной форме шел на серьезный разговор, исхода которого я дожидаться не стал, хотя мне было крайне любопытно, что поведает ожившая и энергичная мышка о разговоре с кошкой, остававшейся чучелом, но продолжавшей подкрадываться.
Маленькая сволочная победа: я опять взял верх. Ну, погоди! Только он не захочет сдаваться. Я ему помогу. Переговорю с Клозе. Подберу слова, которые дойдут до сердца. Жаль, что папашу Бруниса отправили в Штуттхоф. Брунис со старым добрым Эйхендорфом смог бы его поддержать.
Но никто не сумел помочь Йоахиму Мальке. Вот если бы я переубедил Клозе. Но я и попытался, целых полчаса в лицо мне дышали мятные слова, а я робко настаивал: «С точки зрения здравого смысла вы правы, господин оберштудиенрат. Но ведь тут особый случай. С одной стороны, я вас понимаю. Существуют непреложные обстоятельства: требования устава нашего учебного заведения. Сделанного не вернешь; однако, с другой стороны, он так рано лишился отца…»
А еще я беседовал с его преподобием отцом Гусевским, говорил и с Туллой Покрифке, чтобы она обсудила это дело со Штертебеккером и его компанией. Сходил к моему бывшему юнгбанфюреру. У него после Крита была деревянная нога, он сидел в окружном управлении гитлерюгенда на Винтер-плац, мое предложение ему весьма понравилось, а учителей он обругал: «Все организуем, ясное дело. Пусть приходит этот Мальке. Смутно помню его. Кажется, была с ним какая-то история. Но кто старое помянет… Соберу всех, кого смогу. Даже Союз немецких девушек и женскую организацию. Арендую в дирекции почтового ведомства, наискосок от гимназии, зал на триста пятьдесят мест…»
Его преподобие отец Гусевский изъявил готовность созвать пожилых прихожанок и дюжину рабочих-католиков к себе в сакристию, так как залом приходской общины не распоряжался.
«Хорошо бы ваш друг встроил свое выступление в церковные рамки, начал бы со святого Георгия, а в конце отметил бы действенную силу молитвы в трудный час и перед лицом опасности», — предложил Гусевский, поскольку ожидал для себя от подобного выступления немалого успеха.
Остается упомянуть подвал, который намеревались предоставить Йоахиму Мальке ребята из компании Штертебеккера и Туллы Покрифке. Тулла свела меня с Реннвандом, моим шапочным знакомым по министрантской службе в церкви Сердца Христова, и тот с таинственным видом намекнул, что Мальке может спокойно приходить, только пистолет придется на время сдать: «Конечно, ему завяжут глаза, когда проводят к нам. Возьмут с него подписку о неразглашении, но это обычная формальность. Платим мы прилично. Можно наличными или наручными часами с военного склада. Мы и сами ничего бесплатно не делаем».
Но Мальке ни на что не соглашался, даже за гонорар. Я поддавливал: «Чего ты, собственно, хочешь? Все не по тебе. Поезжай в Тухель-Норд. Там как раз новый призыв. Но каптер и повар помнят тебя по прежним временам и будут рады, если ты приедешь выступить».
Мальке выслушивал все предложения спокойно, порой с улыбкой, согласно кивал, деловито осведомлялся о вопросах организационного характера, но когда тому или иному варианту вроде бы уже ничего не мешало, он коротко и угрюмо от него отказывался, даже от приглашения из канцелярии гауляйтера; с самого начала он видел перед собой единственную цель — актовый зал нашей гимназии. Ему хотелось стоять в пронизанных пылинками лучах солнечного света, проникающих в актовый зал из неоготических стрельчатых окон. Ему хотелось говорить, обращаясь к трем сотням громко и тихо пукающих гимназистов. Ему хотелось, чтобы рядом и позади сидели в полном сборе бывшие учителя с их поношенными физиономиями. И чтобы напротив, в конце актового зала, красовался выполненный маслом портрет основателя нашего учебного заведения и его мецената, барона фон Конради, бледного и бессмертного под зеркально блестящим слоем лака. Ему хотелось шагнуть в актовый зал через потемневшие от старости распахнутые двери, а потом после краткой, содержательной речи выйти через другую дверь; однако Клозе в своих клетчатых бриджах преградил ему путь у обеих дверей: «Как солдат, Мальке, вы должны меня понять. Нет, уборщицы мыли скамейки без особого повода, не для вас и вашего выступления. Допускаю, что ваше выступление хорошо продумано, но ему не суждено состояться; многие люди — позвольте вам заметить — обожают при жизни возлежать на дорогих коврах, а умирают на голом полу. Учитесь самоотречению, Мальке!»
И все-таки Клозе пошел на некоторые уступки; он собрал педсовет, а тот, согласовав свое решение с директором школы Хорста Бесселя, постановил: «Устав учебного заведения требует…»
А еще Клозе заручился одобрением обершульрата, инспектора учебных заведений, относительно того, что проступок бывшего ученика, несмотря на его нынешние заслуги или даже с особым учетом таковых в столь трудные и серьезные времена, не делает возможным… хотя не следует преувеличивать значение давней истории, однако само происшествие абсолютно беспрецедентно, поэтому преподавательские коллективы обоих учебных заведений пришли к единому мнению, что…
А еще Клозе написал личное письмо, совершенно приватного свойства. И Мальке прочитал, что Клозе не вправе поступить по велению собственного сердца. Время и обстоятельства таковы, что опытный человек, чувствующий бремя своей профессиональной ответственности, не должен подчиняться движениям отцовских чувств; руководствуясь духом учебного заведения и конрадианскими традициями, он просит Мальке проявить должное мужество и оказать ему поддержку; он с интересом выслушал бы речь Мальке, которую тот, будем надеяться, вскоре произнесет в школе Хорста Весселя, отбросив горечь обиды; но было бы, дескать, еще более достойно героя предпочесть красноречию молчание.
Однако Великий Мальке уже заплутал на своем пути, похожем на заросшую колючими ветвями без птиц аллею в дворцовом парке Оливы, которая, несмотря на отсутствие боковых дорожек, все равно оказывалась лабиринтом; днем он спал, играл с теткой в «мюле»[43] или, изнывая от безделья, ждал окончания отпуска, бродил вместе со мной по ночному Лангфуру — я всегда шел за ним, иногда рядом, но никогда — впереди его. Мы не слонялись бесцельно: прочесывали тихую и степенную, строго исполняющую предписания противовоздушной обороны Баумбахаллее, где обитали соловьи и проживал оберштудиенрат Клозе. Я устало плелся за форменной курткой Мальке: «Не дури! Ты же видишь, что ничего не добьешься. К чему тебе все это? Ведь убьешь напрасно последние дни отпуска. Кстати, сколько тебе еще осталось? Только не дури…»
Но в лопоухих ушах Великого Мальке звучала иная мелодия, нежели мои монотонные увещевания. До двух часов ночи стерегли мы Баумбахаллее и двух ее соловьев. Дважды мы упускали его, потому что он шел с сопровождением. Но после четырех ночей нашего караула оберштудиенрат Клозе появился около одиннадцати вечера один; высокий и узкоплечий, в бриджах, но без пальто и шляпы — было довольно тепло — он вышел со Шварцервег на Баумбахаллее; Великий Мальке, протянув левую руку, ухватил его за воротник обычной, не форменной рубашки и галстук. Он прижал педагога к кованой решетке чугунной ограды, за которой — ночь была так темна — цвели пахучие розы, чей аромат заглушал даже соловьиные трели. Мальке внял письменному совету оберштудиенрата Клозе, отдав предпочтение героическому молчанию; не говоря ни слова, он слева и справа хлестнул рукой по гладко выбритой физиономии. Оба — упрямые, выдержанные. Только шлепки прозвучали живо и красноречиво; Клозе также не открывал свой маленький рот, не желая смешивать аромат роз с запахом мяты.
Все это произошло в четверг и заняло меньше минуты. Мы оставили Клозе у чугунной ограды. Мальке отвернулся первым, его сапоги зашагали по посыпанному галькой тротуару под красным кленом, который, однако, заслонял небо своей чернотой. Я пробормотал что-то вроде извинений — за Мальке и за себя. Побитый Клозе лишь отмахнулся, да он уже и не выглядел побитым, стоял прямо, воплощая своей темной фигурой при поддержке садовых цветов и редкостного птичьего пения дух своего учебного заведения, дух «Конрадинума», как называлась наша гимназия.
С этой минуты мы пошли слоняться по безлюдным улицам пригорода и уже ни единым словечком не обмолвились о Клозе. Мальке подчеркнуто деловито рассуждал о проблемах, которые занимали его и отчасти меня в том возрасте. Например, существует ли жизнь после смерти? Или: веришь ли ты в переселение душ? Мальке говорил: «Я сейчас довольно много читаю Кьеркегора. Позднее обязательно почитай Достоевского, особенно если попадешь в Россию. Сможешь немало понять насчет менталитета и прочего…»