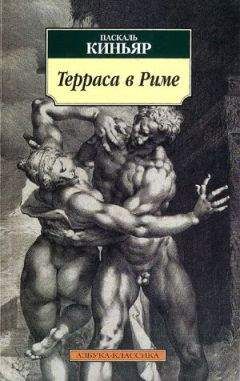Но тут же встрепенулся от хриплого громового баса Юлиана. Тот спросил у Лоранс, нельзя ли поставить пластинку. Лоранс кивнула. Она и впрямь выглядела счастливой. На ней было платье старинного покроя из тусора, серое, прямое, с глубоким квадратным вырезом на груди. Брюс Спрингстин завопил Born in the USA,[45] и Эдуард испуганно вскинулся. Впрочем, заведи они сейчас Иоганна Себастьяна Баха, он ужаснулся бы ничуть не меньше. Он подумал о дружбе со своими тремя братьями, которую так и не смог сохранить, хотя вернее было бы назвать ее товариществом – грубоватым и одновременно стыдливым, без сердечных излияний и телячьих нежностей. Но эти отношения разъедала ревность. С самого отрочества – с той минуты, как их голоса начали срываться на бас, он и его братья наверняка не раз впадали во взаимную ненависть, но и она в конечном счете вылилась в полнейшее безразличие, и теперь они обменивались смущенным рукопожатием паз в пять-шесть лет, только и всего.
Комната наполнилась завываниями. Роза и Юлиан размахивали руками, дергали плечами. Эдуард встал и подошел к маленькому письменному столу, возле которого на диванчике валялись плащи, сброшенные им и Лоранс. На столе стоял телефон. Он позвонил Пьеру Моренторфу. Пьер оказался на месте. Он был всерьез озабочен проектом перепродажи лондонского магазина. Откровенно говоря, дела шли вполне успешно лишь в трех местах – Париже, Риме и Брюсселе. Нужно было действовать без промедления. Эдуард рассказал Пьеру о своем триумфе в Панипате, объяснил, какой подводный камень представляет собой Лондон.
– Ну что ж, раз война объявлена, месье, может, нам следует закупать оловянных солдатиков для обороны?
– Ох, Пьер, не шутите так!
– Месье Мишель Шолье предлагает за два тюльпана, плюс процент с обмена, целую армию таких.
– Нет и нет! Это слишком старый рынок, старый и бесперспективный. Я не желаю ни олова, ни свинца, ни алюминия. До сих пор мы делали исключение только для солдатиков из папье-маше, из древесных опилок и медонской жести.
– Месье, бывают еще очень красивые пластмассовые. А вы почему-то всегда ими пренебрегали.
– Пластмассовые?! Да ни за что на свете! Игрушка, сделанная после Второй мировой войны, никогда не пройдет через мои руки!
– Месье отворачивается от своего времени.
– Вы просто болван, Пьер. И прекратите величать меня «месье».
– Нет, месье. Я буду называть вас так, как мне хочется вас называть.
– Меня зовут Эдуард. Моя фамилия Фурфоз. И никакой я вам не «месье». Я родился в 1941 году…
– …когда американские солдатики из пластмассы побили немецкую армию из свинца и алюминия, а было это в 1945-м.
– Нет. Это было в 1946-м. Звезднополосатый солдат выиграл войну в 1946-м!
– Месье, конечно, считает, что лучше иметь алюминиевые пороки, нежели пластмассовые добродетели.
– Вовсе нет. Я считаю, что нужно иметь пластмассовые пороки, пластмассовые добродетели и свинцовые или золотые желания. И вообще, мне холодно. И я смертельно устал. Отныне будьте любезны обращаться ко мне на «ты».
Положив трубку, он сел, колеблясь между необходимостью вернуться к столу и желанием сбежать. Теперь он будет обходить за километр эту Розу ван Вейден. Она голландка. В ней нет ничего бельгийского. Лоранс не чувствует эти нюансы, разницу между этими двумя мирами. Роза ненавидела Ива Гено и толкала Лоранс на развод. Сама она успела развестись с двумя мужьями. У нее была брутальная внешность и вызывающе грубые интонации, которые путали Эдуарда еще больше, чем ее резкие манеры. Ее тело с могучими плечами, излучавшее здоровую энергию, переполненное ненасытной жаждой жизни, способное на любые неожиданные выходки, находилось в постоянном лихорадочном движении. Бракоразводные процессы, планы летних каникул – в июне в Нормандии, а затем, в августе, на юге, – туалеты Лоранс, которую она осыпала ласками и толкала на откровенность, – все приводило ее в возбуждение. Это была прихлебательница Лоранс, она донашивала ее платья, служила ей и адвокатом, и гувернанткой, и придворным шутом. Она ни минуты не сидела на месте, кипела завистью, пила сверх меры, распевала во все горло, швыряла туфли через всю огромную залу своего лофта на улице Пуассонье.
Эдуард вернулся к столу с плащом в руках. Сказал, что ему, к величайшему сожалению, пора уходить. Роза была уже пьяна вдрызг. Она взялась откупоривать четвертую бутылку прованского вина. Придвинувшись к Эдуарду и тыча ему в грудь и живот донышком бутылки, она объявила, что и сама намерена заняться коллекционированием игрушек Потом соскользнула на пол, села в позу «лотос» и залилась слезами. Юлиан ван Вейден сгорал от стыда, глядя на всхлипывающую мать. Он покраснел до корней волос. Остановил пластинку с причудливыми песнопениями Брюса Спрингстина, сунул ее под мышку, обошел стол, прощаясь за руку с гостями, и удалился в свою комнату, где тут же загремел телевизор.
Ни Лоранс, ни Эдуард никак не могли утешить рыдавшую Розу ван Вейден, которая по-прежнему сидела в позе «лотос» у их ног. Одурманенная прованским вином, Роза вдруг решила поведать им историю своего детства по-нидерландски. Каковой рассказ постепенно вылился в подробнейшее изложение мультфильма Вилли Вандерстеена «Suske en Wiske», позже вышедшего на французском под названием «Боб и Бобетта, Сидони и Ламбик».
Эдуард знаками умолял Лоранс поскорее сбежать отсюда. Но Лоранс не желала уходить, она тоже расплакалась и села на пол рядом с подругой в позе «лотос»; обе женщины принялись подсчитывать, сколько подгузников было использовано в раннем детстве Адрианы (теперь уже четырехлетней). Установив цифру 2240, они в ужасе разохались и начали вычислять стоимость всех этих подгузников. В результате Роза разрыдалась еще пуще, вопя, что все эти траты разорили ее вконец. Попутно она осыпала ругательствами Эдуарда, который спал стоя, держась за свой плащ, как за лестничные перила или поручень катера в антверпенском порту, идущего против ветра из гавани вверх по течению Эско. Она тыкала пальцем в Эдуарда, указывая на него Лоранс и проклиная на все лады:
– Это его игрушки виноваты… Игрушки этого мерзавца!..
И Роза ван Вейден рассказала, как она играла с машинками в Херенвене, на берегу озера Эйсель, когда умирала ее мать. Ей было тогда не четыре года, как Адриане, но пять, уточнила она, торжественно воздев кверху палец. Ее бабушка с материнской стороны – та самая, у которой проводила каникулы Адриана, – схватила Розу за плечи и с помощью няньки кое-как дотащила до комнаты умирающей. Роза сжимала в правом кулаке игрушечный «ситроен». Женщины подталкивали ее к постели, но она билась и изворачивалась у них в руках. Тогда они приподняли ее так, что она не доставала ногами до пола и могла только брыкаться. «Поцелуй свою маму. Поцелуй ее!» – говорили они по-нидерландски, и девочка, сотрясаясь от рыданий, коснулась губками мертвенно-бледной, скользкой от пота щеки матери. Но это неожиданное, болезненное ощущение чего-то податливо-мягкого и холодного привело в транс маленькое сопротивляющееся тельце. Она упала навзничь, ударившись головой об угол ночного столика и выронила свой «ситроен». Едва она приподнялась, встав голыми коленками на паркет, как получила жестокую затрещину от бабки, оравшей: «И ты смеешь играться с машинками, когда мать на смертном одре! Поцелуй ее сейчас же, в последний раз!»
Роза ван Вейден так и не узнала, что случилось дальше. Может, она и в самом деле поцеловала в щеку труп матери. А может, потеряла сознание. Впоследствии Роза участвовала в национальных соревнованиях по плаванию и прыжкам в высоту, дважды поднималась на пьедестал почета. Эдуард никак не мог уловить связь между этими спортивными подвигами и смертным одром матери. Лоранс, сидевшая на полу, положила голову Розы к себе на колени, прижала ее к животу, к платью из серого тусора. Роза легла, свернувшись калачиком.
Эдуард дослушал захватывающую историю о машинках и смерти, незаметно пятясь и натягивая плащ; потом стремительно вышел.
«Мама, зачем ты придумала себе это путешествие к смерти!» Среди ночи Лоранс внезапно проснулась. Приподнявшись на локте, она вспоминала больно ранивший ее сон. Накануне она слишком много выпила. Она вгляделась в светящийся циферблат будильника. Два часа ночи. Лоранс села на постели. И подумала о матери – безупречно подкрашенной, тщательно одетой и молча сидевшей на берегу Женевского озера. Сколько Лоранс помнила мать, та всегда была склонна к депрессиям, преувеличенно сентиментальна, очаровательна, плаксива, любила читать мораль, чего особенно не выносил Луи Шемен, восторгалась всем подряд и постоянно глотала какие-то лекарства. И тут ей вспомнился сон, от которого она проснулась. Там был Эдвард со шлемом на голове. В этом сне его звали именно Эдвардом. Ей хотелось называть его Эдвардом – так, как произносила это имя Роза. В самом конце сна он почему-то остался почти голым, но все еще в шлеме и явно желал ее. Он с трудом распутывал грубую рыбачью сеть, которая сковывала его движения, не позволяя приблизиться к ней. Но как только Эдвард склонился над нею, его дыхание обожгло ее лицо, и все тело вспыхнуло огнем от его близости. Лоранс осторожно приподняла простыню, взглянула на тело спавшего рядом мужа. Он был гораздо красивее Эдварда. Но она-то любила Эдуарда, вернее, Эдварда, поскольку Роза именно так произносила это имя, поскольку тот сон повелевал ей называть его именно так.