— Я все сделал, как вы велели, — с удовольствием сообщил толстяк. — В два счета управился. Приласкал его, приладил веревку — и готово!
— А что еще было делать? — отвечала обманщица. — У него, у бедняжки, вертячка была. Чем глядеть, как он мучится…
— Это уж верно. Они хоть и животные, а тоже страдают не хуже нашего…
Не стану приводить дальнейшие столь же гуманные рассуждения обоих сообщников. Забившись в темный угол, я живо представил себе картину гнусного преступления, и у меня сжалось сердце. Предательство Ма Люсиль поразило меня не меньше, чем гибель котенка: мир оказался недобрым, а зло гораздо более изощренным, чем я предполагал. Вскоре я смог и сам в этом убедиться на собственном опыте.
Со свойственным детям непостоянством я довольно скоро забыл про котенка, тем более что ему сыскалась замена в лице паршивого кролика, по живописному выражению Люсиль, самого обыкновенного серого кролика, наделенного всем очарованием, присущим этой породе. Насколько я помню, я не был до той поры жестоким ребенком и никогда не мучил животных. Я их обожал, обожал, как тогда выражались, всякое творение, вплоть до самых низших и липких представителей животного мира, вроде улиток и слизняков. И все же я совершил свой страшный поступок, и, как знать, не был ли он первым настоящим поступком в моей жизни, то есть таким актом, последствия которого падают на нас, и только на нас, и мы никогда не сможем переложить их на плечи другого, — иными словами, поступком, который налагает ответственность. Каким бы ребяческим ни показалось мое тогдашнее поведение, ведь в самом деле кроличья жизнь недорого ценится, я мысленно возвращаюсь к нему на протяжении всей своей жизни…
Этому кролику, казалось, была суждена счастливая доля. Его поместили во дворе, в пристройке, кормили на славу, он быстро у нас раздобрел и настолько освоился, что запросто прибегал в швейцарскую и охотно позволял себя гладить; короче, мы с ним дружили и были очень довольны друг другом. Если сравнить кролика с кошкой, сразу бросается в глаза, что кошка — это личность, она проявляет свой характер и защищает свои права; кролику труднее проявить свои индивидуальные черты, которые выделяли бы его среди других представителей кроличьего рода, поэтому, когда взрослые хвалили моего кролика, в их комплиментах угадывалась некая задняя мысль. Мне неприятно смотреть, как обе бабушки ощупывают ему бока и восклицают: «Вот уж кому корм идет впрок!» — таким плотоядным топом, что об этом лучше не думать. Это объясняет, почему кролики поставлены в такие неблагоприятные условия. Я и сам не могу помешать себе думать об этом, когда слышу, как гремит по мостовой страшная тележка кожевника, доверху набитая свежесодранными шкурками.
Может быть, на меня повлияли все эти мрачные намеки? Не думаю. Мой кролик был так ласков и так игрив, что достиг кошачьего уровня. Он сумел преодолеть поставленные ому природой ограничения. Но я по-прежнему равнялся на нехорошего мальчика из сказки. Он-то, должно быть, и шепнул мне, что в моем поведении нет никакой логики: разве злой мальчик может любить животных? Что за нелепость такая — издеваться над собственной прабабушкой и расточать свои ласки самому заурядному кролику? Я был в затруднении, даже в тревоге: мучить животное меня не очень прельщало, это было злодеяние мелкого калибра, не слишком-то предосудительное. Поэтому я приступил к нему без всякого энтузиазма, просто чтобы поглядеть, что из всего этого выйдет; для начала, однако, нужен был предлог, способный вызвать у меня враждебное чувство к моему другу. Я решил, что кролик должен понести наказание за серьезный проступок, но даже не дал себе труда придумать, за какой именно. Эта нехитрая уловка сработала с поразительной быстротой.
Ареной для меня служит двор, где в это время, разумеется, нет ни души; я хватаю преступника за уши и волоку его к одному из двух мест моих мечтаний и страхов, к лестничной клетке черного хода. Там я подвергаю несчастного пытке, подобной средневековой дыбе. Я хватаю его за задние лапы, раскачиваю и подкидываю высоко вверх, вынуждая совершить опасный прыжок, который при падении грозит ему гибелью. Кролик приземляется благополучно и хочет удрать, я настигаю его и повторяю ту же самую процедуру, обнаруживая при этом, что теперь он смертельно боится своего бывшего друга; это открытие нравится мне, переполняет меня злобным возбуждением, которое еще больше возрастает, когда, после следующего полета в воздух, показав чудеса акробатики и опять приземлившись на лапы, это безмолвное всегда существо вдруг испускает душераздирающий крик; годы спустя, на охоте, так же надрывно кричал раненый заяц. Со мной происходит что-то непонятное, я чувствую, что это уже не игра, что я стал палачом и наслаждаюсь бессильным сопротивлением жертвы, ах ты, дрянь поганая, ты еще смеешь падать на лапы, но я все равно сломаю тебе хребет, скотина ты этакая! У меня даже кружится голова от собственной жестокости, но тут же меня охватывает страх: я уже предвижу, что сейчас все кончится смертью, что я навсегда лишусь моей истерзанной пытками любви; должно быть, я испугался еще и оттого, что вступил в пределы чего-то совершенно неведомого, и это неведомое завладело мной настолько, что я уже не знал, как мне вернуться в прежнее состояние, ибо те средства, которые я применял, издеваясь над безответным человеческим существом, оказывались здесь непригодными… Вижу, словно это было вчера, залитый солнцем пустынный двор, измученное животное, его безграничный ужас, и себя, растерянного, не знающего, как со всем этим покончить. Мне мучительно хотелось бы стереть, уничтожить то, что сейчас произошло, мне приходит в голову новая мысль — нужно дополнить сценарий карательных мер тюремным заключением: осужденный провести остатки дней своих в мрачной темнице, преступник исчезнет навечно, он не сможет быть больше свидетелем злодеяний своего палача. Придя к такому решению, я бросаюсь на своего любимца, в последний раз хватаю его, с размаху швыряю в чулан и захлопываю за ним дверь. С мрачной усталостью оглядываю я поле своих гнусных подвигов.
Но кролик, чьи умственные способности, видимо, ослабли из-за перенесенных им пыток, к несчастью, не понял, что тюремная камера несет ему спасение. Привыкнув к свободе и ослепленный страхом, он решил, что в этой темнице ему уготованы новые муки, он пытается убежать и тычется мордочкой в плохо закрывающуюся дверь, она поддается. Это вызывает у меня новую волну улегшегося было гнева, и я снова и снова заталкиваю зверька в чулан. Я изо всех сил яростно хлопаю дверью, пытаясь преградить ему путь, и это настолько поглощает мое внимание, что я забываю о цел л своих действии. Моя дикая ярость оборачивается теперь против непокорной двери, и происходи!' непоправимое… Я слышу вдруг не удар дерева по дереву, раздается совсем другой звук. У меня сжимается сердце, я понимаю, в чем дело. Зажатая между наличником и створкой дверей, у моих ног отчаянно дергается кроличья голова.
Я распахнул дверь, с нежностью поднял жалкое тельце и, сознавая всю бесплодность своих усилий, пытался поставить кролика на лапы, но, сотрясаемый судорогой, он завалился на бок, подергался и затих. Из ноздрей по мордочке потекла кровь. Он смотрел па меня, этот взгляд умирающего животного мне никогда не забыть, потом он обмяк и глаза его стали мутнеть. Все кончилось, кончилось навсегда, и я один был в этом повинен. Меня затопила внезапно вернувшаяся любовь, целый водопад любви, я сжимал в руках пушистое неподвижное тельце, целовал окровавленную мордочку и горько рыдал. Кого мне было винить? Ведь я верил, что не виноват в происшедшей трагедии. Но я оказался убийцей, я отнял жизнь у существа, которое так любил, любил в этот миг сильнее всего на свете, возможно потому, что не мог вернуть ему жизнь. Как это подло! Я совершил страшное преступление, и никогда никто не снимет с души моей груз, мне суждено будет вечно терзаться своей причастностью к чему-то ужасному, темному, коварно нашептывающему нам, что единственный способ разом порвать невыносимые путы — совершить своего рода убийство, — ведь даже одна только мысль об этом притягивает нас к себе ароматом вины и как будто обладает колдовской властью все устроить и все решить.
И вот я стою на пустынном дворе и размазываю по своему лицу, на манер восточной плакальщицы, кровь невинной жертвы. И кровь эта смешивается с моими слезами, а прибежавшая на шум Ма Люсиль, потрясенная, смотрит на меня.
— Боже милостивый! Что ты сделал с несчастным животным? Как же так получилось?
Мне мучительно стыдно, но я еще не до конца осознал свой проступок и его далеко идущие последствия, они ускользают от меня, я лишь испытываю отчаяние, скорблю о безмерности этой потери и бессмысленно твержу:
— Он умер, он взаправду умер?
Прабабушка весьма просто обрывает мои причитания, она берет кроличью тушку, взвешивает ее на ладони и преспокойно говорит:
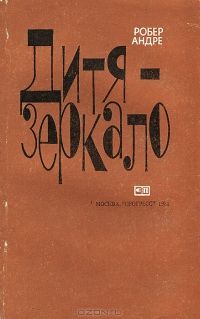


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

